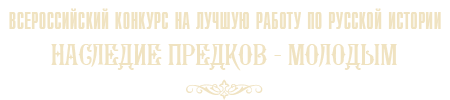Кажется, споры о месте и роли России в мировом историческом процессе не утихали никогда. Строго говоря, это не только противостояние славянофилов и западников в XIX веке, но и труды Филофея Псковского, а также деятельность Петра Великого. Одни видели безусловное преимущество движения России в истории по собственной траектории при освещении этого пути православием, другие – не чурались вознесения в абсолют западноевропейской модели развития общества и государства, третьи и вовсе считали наше государство сугубо восточным, испытавшим огромное влияние со стороны Золотой Орды. И напрашивающийся ответ «Истина где-то посередине» на вопрос: «Что же такое Россия?» отнюдь не выглядит единственно верным.
Эксперименты с коммунизмом, затянувшиеся на более чем 70 лет, выкинули Россию из поля общемировой цивилизации. Пусть это были 70 лет, за которые СССР создал атомную бомбу и запустил человека в космос, но это было время существования России в некой изоляции. Однако теперь стало понятно, что для нас в новом мире места не оказалось, ведь он строился параллельно. Все же оказались понятны алгоритмы развития, прописанные технологии, благодаря которым Россия могла стать частью западного мира. Но своим шансом воспользоваться нашей стране не удалось.
Современная государственная идеология после долгих раздумий и заигрываний с Западом диктует постулаты о том, что у России особый путь. Вместе с тем, многонациональный и многоконфессиональный состав населения страны не позволяет произвести этот процесс как можно более гладко. Другая цивилизация – это другая культурная планета, где все главное появилось само. Она не создается законом: вчера решили быть Европой, сегодня передумали. Проблема современной концепции отечества в том, что отвернувшись от Запада, Россия не стала автоматически Востоком, а оказалась снова где-то между.
Вся противоречивость оценок исторического прошлого, настоящего и будущего России наглядно отразилась в жизни и трудах философа Петра Яковлевича Чаадаева.
Фигура Петра Яковлевича Чаадаева стоит особняком в истории российской общественно-политической мысли. Прежде всего, это весьма неординарный философ, высказавший столько непопулярных характеристик России, что их хватило почти на два столетия споров историков и философов о сути его взглядов на место и роль в мировой истории нашего Отечества. Разброс мнений и оценок велик: от апологетики и до полного отрицания и даже утверждений о бреде сумасшедшего.
Петр Яковлевич Чаадаев родился 27 мая (7 июня) 1794 года в Москве. Он был представителем старой дворянской фамилии. Достаточно сказать, что его родным дедом был известный русский историк конца XVIII века, придворный историограф Екатерины II князь Михаил Михайлович Щербатов. Политический темперамент деда, где-то желчный и резкий, во многом передался Чаадаеву. Про отца, Якова Петровича Чаадаева, практически ничего не известно, кроме того, что тот был советником судебной палаты. Родители не успели оказать влияния ни на Петра, ни на его старшего брата Михаила – отец покончил с собой в 37 лет в год рождения Чаадаева, а мать умерла, когда ему было три года. Маленькими детьми они попали под попечение тети Анны Михайловны Щербатовой. Старая дева, она все свои силы отдала на воспитание своих племянников и молодого князя Щербатова. В качестве домашних учителей приглашали почти всегда профессоров. Когда домашнее обучение закончилось, все трое легко поступили в Московский университет.
Чаадаев поступил в Московский университет в 1808 году. В те годы там господствовала немецкая школа философии, и, несомненно, что знакомство его с произведениями немецких классиков вроде Канта, Фихта и Шеллинга, проходило в духе просветительства, рационализма и свободолюбия. Московский университет был на подъеме, был принят университетский устав, который значительно расширил возможности преподавания. Появилась целая череда молодых профессоров, обучение велось на европейском уровне. В университетские годы Чаадаев не просто поражал всех своей ученостью, он единственный из высокознатных студентов вел переписку с парижскими букинистами, получая самую свежую литературу.
Свою карьеру Чаадаев начинал, как и все дворянские юноши того времени, в военной службе. 12 мая 1812 года вместе с братом Михаилом он был определен подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк, этот полк считался аристократическим и привилегированным. В 1813 году переведен поручиком в Ахтырский гусарский полк, в начале 1816 года - корнет лейб-гвардии Гусарского полка, в этом же полку получил чины поручика, штабс-ротмистра, а в декабре 1819 года - ротмистра. В феврале 1821-го вышел в отставку, не получив при отставке ни очередного чина полковника, ни права ношения военного мундира.
Чаадаев участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года (Бородино - за отличие произведен в прапорщики, Тарутино, Малоярославец) и Заграничных походах русской армии 1813-1814 годов (Люцен, Бауцен, Кульм - награжден орденом св. Анны IV степени, так называемая Аннинская шпага, и прусским Кульмским крестом, Париж).
«Три похода, сделанные Чаадаевым в военную эпоху последних войн с Наполеоном, в военном отношении не представляют собой ничего примечательного, - писал его дальний родственник и близкий друг М. Жихарев. - В конце двенадцатого года он был болен какой-то страшной горячкой, где-то в польском местечке, однако же поспел к открытию военных действий в тринадцатом году. Под Кульмом в числе прочих получил Железный крест (Кроме Железного креста он имел еще два других, прусский "Pour le Mrite (фр. За заслуги) и, кажется, какую-то Анну на сабле, но этих двух никогда не надевал. Все медали того времени, разумеется, он так же имел). Храбрый обстрелянный офицер, испытанный в трех исполинских походах, безукоризненно благородный, честный и любезный в частных отношениях, он не имел причины не пользоваться глубокими, безусловными уважением и привязанностью товарищей и начальства» [31, С. 46].
Казалось бы, перед Чаадаевым была открыта дорога для блестящей военной карьеры, однако в 1820 году произошло событие, которое резко изменило ход его жизни, а именно восстание Семеновского полка, так называемая «Семеновская история». Суть его была в том, что полк отказался повиноваться своему новому командиру немцу по фамилии Шварц, оказавшимся человеком жестоким и требовавшим от солдат невероятных усилий, к которым они не привыкли. Не было никакой стрельбы, солдаты попросту отказались выходить из казарм. Чаадаеву была поручена роль курьера, он должен был мчаться из Санкт-Петербурга в Троппау, чтобы сообщить императору о «Семеновской истории», однако параллельно был выслан австрийский посланник. Австриец на беду Чаадаева прибыл на день быстрее, таким образом австрийский канцлер Меттерних узнал об этом раньше, чем Александр I. Российский император с большими преувеличениями услышал об этом событии от зарубежных коллег. Дальнейшие события до сих пор являются предметом домыслов: то ли Александр был в ярости, то ли неожиданно предложил Чаадаеву должность собственного флигель-адъютанта. В любом случае, тот подал в отставку. Свой поступок Чаадаев объяснил в письме к близкой родственнице: «Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают...» [2, С. 377]. На ум приходят строки из «Горя от ума»: «Чин следовал ему – он службу вдруг оставил», «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Многие современники отмечали, что прототипом Чацкого был именно Чаадаев. В зрелые годы философ писал: «Моя жизнь сложилась так причудливо, что едва выйдя из детства, я оказался в противоречии с тем, что меня окружало» [2, С. 413].
Становится понятно, что один из главных тезисов о том, что он не любил Родину, не имеет под собой никакой основы. Человек, рисковавший жизнью ради освобождения Отечества, не может быть обвинен в отсутствии преданности своему народу. Чаадаев в данной ситуации стал, скорее, жертвой обстоятельств. Свой отпечаток наложили и излишняя прямота, и бескомпромиссность Петра Яковлевича. Он не смог подстроиться под существующую государственную модель, постоянно стремясь ее изменить.
В 1823 году писатель уехал в Европу (напомнив тем самым литературного персонажа – Евгения Онегина), это во многом его спасло во время восстания на Сенатской площади в 1825 году, ведь он являлся участником первых тайных сообществ (Союза спасения и Северного общества), хотя большой активности там не проявлял. Мы не можем назвать Чаадаева декабристом в классическом понимании, с декабризмом у него были сложные взаимоотношения, позднее он выразился: «...Вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми между трубкой и стаканом вина» [2, С. 365]. На родину Чаадаев возвратился уже в 1826 году, неоднократно вызывался на допросы, но раз за разом отпускался.
Путешествие произвело на Петра Яковлевича эффект прозрения. Нигде в Европе он не встретил такого бесправия, как в России, нигде не сохранилось рабство, именуемое крепостным правом. Исследователи не едины во мнении, в этой ли поездке зародились и сформировались будущие идеи философа, однако влияние на воззрения Чаадаева признается несомненным. В.В. Стасов писал: «По уму, по способностям и по привычке, и стремлению к серьезному, глубокому мышлению это был прежний Чаадаев и даже значительно развившийся Чаадаев, но Чаадаев с умом, затемненным словно какой-то постороннею, напрасно навязонною извне занавеской» [50, С. 179].
Примерно в это же время он перебрался в Москву, где царила патриархальная обстановка, доброжелательность московского либерализма, и начал заниматься литературной и философской деятельностью. Петр Яковлевич поселился на Басманной улице у своих друзей Левашовых в деревянном флигеле, который со временем обветшает, но у писателя не будет средств для ремонта. Здесь он обрел славу «басманного философа» и «приемную» семью. Тем не менее, муж и дети Екатерины Гавриловны Левашовой не понимали, почему она поощряет иждивенчество жильца, практически не беря плату за проживание и покупая ему билеты в театр и книги. Вскоре семья стала смотреть на Чаадаева ее глазами – они подружились. В благодарность Петр Яковлевич давал уроки ее детям. Левашовы разделили с ним тяжкие годы травли и домашнего ареста.
Прекрасно образованный, Чаадаев любил книги, собрал собственную библиотеку, владел иностранными языками. В круг его общения входили умнейшие люди тогдашней России – Герцен, Пушкин и другие. Современники отмечали просвещенный ум, художественное чувство и благородное сердце Чаадаева, некий аристократизм в его повадках и независимость, а Петр Вяземский называл его «преподавателем с подвижной кафедры» [13, C. 75]. Высокий, серо-голубые глаза, «медальная» внешность, совершенно нехарактерная для славянина. В то же время одинокий, холодный и независимый ум, чувство избранничества, презрение и ощущение неизбежного превосходства над окружающим миром. Из всего этого складывался образ весьма загадочной личности. Мандельштам с восхищением и пиететом описывал его: «Все те свойства, которых лишена была русская жизнь, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски, которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он – только форма, и заранее подготовляя слепок для своего бессмертия» [49, С. 547]. Розанов же, напротив, с неприязнью свидетельствовал: «Но какой отвратительный рот у Чаадаева, какое высокомерие, несносное для русского. Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий – я, - говорят губы Чаадаева» [46, С. 96]. В этом был созданный им самим стиль – небрежно-изысканная одежда, язвительная ирония, дистанция и презрение. Можно ли назвать Чаадаева нарциссом? Отчасти. Исследователь П.В. Кузнецов говорит, что Петр Яковлевич «был влюблен не в себя самого, а в свое самосознание, свою рефлексию, способную странствовать по векам и тысячелетиям» [45, С. 177]. Чаадаев был весьма расточителен. Тут следует упомянуть любопытное свидетельство о том, что перчатки он покупал дюжинами и, если первая пара казалась ему не достаточно элегантной, то выбрасывал весь заказ и делал новый [27, С. 194]. Когда-то братья Чаадаевы наследовали миллионное состояние, брат Михаил присылал Петру ежегодно 7000 серебряных рублей, сумму весьма приличную для московского холостяка. Чаадаев не вылезал и долгов, отсылая долговые обязательства брату и попутно обвиняя его в том, что он не мог вести хозяйство [2, С. 366]. В 1832 году ушло с молотка последнее их имение, дотации из дома прекратились. Вывод из вышесказанного напрашивается сам: только такой человек и мог стать первым русским философом.
По возвращении из-за границы Чаадаев вел отшельнический образ жизни, это было своего рода книжное одичание. Дошло до того, что весной 1831 года, Чаадаев так наскучил доктору своими капризами и бесконечными жалобами, что врачи не выдержал и буквально за рукав оттащил пациента в английский клуб. Петр Яковлевич встретил кучу былых знакомых, которые не видели его еще с эмиграции, он оказался в центре внимания, его с удовольствием слушали. Казалось, будто чудесное исцеление произошло. Чаадаев особенно привлекал к себе внимание дам и передавал им все читаемое в иностранных газетах и журналах, имея «счастливую память и обладая даром слова» [47, С. 232]. Вчерашнему затворнику было, что сказать людям, он словно готовил общество к появлению «Философических писем».
Центральным трудом Чаадаева стали «Философические письма», представлявшие собой своего рода историко-философский трактат об историческом пути России, о ее своеобразии как общества, государства, особой исторической величины. Первый вариант сочинения был написан еще в 1829 году, а опубликован в 1836 году. Идеи, содержавшиеся в письмах, были столь смелыми, что никто не решался их напечатать. «Никогда ни одно событие со времен появления письменности в России, - писал биограф Чаадаева Жихарев, - не вызывало такого шума, такой всеобщей реакции. Не было семьи, не было места в Москве, где в течение месяца не обсуждали чаадаевские письма» [31, С. 46]. Очень важно понимать, на каком историческом фоне возникли эти произведения. Россией правил Николай I, считавший своей непосредственной задачей как императора, обязанностью перед Богом – обеспечить порядок и стабильность в стране, укрепить самодержавие и остановить развитие либерального течения, способного разрушить Россию изнутри. Немаловажным в этом аспекте представляется то, что Николай Александрович был учеником Николая Михайловича Карамзина, с точки зрения которого самодержавие представляло собой «умную политическую систему», прошедшую длительную эволюцию и сыгравшую уникальную роль в истории России [42, С. 26].
Чаадаев взглянул на жизнь в России как на проблему. Он писал о народе, о России, о том, как странно она живет между Западом и Востоком, не усвоив до конца обычаев ни того, ни другого. «...Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны были сочетать в себе две великие основы духовной природы — воображение и разум, и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль предоставило нам Провидение. Оно предоставило нас всецело самим себе. Про нас можно сказать, что мы составили как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Россия всегда была где-то между и в одиночестве. Если страна двигалась вперед, то вкривь и вбок, а если росла, то никогда не расцветала. «В нашей крови, - писал он,- есть нечто препятствующее всякому истинному прогрессу. Наше нынешнее состояние – это мертвящий застой, в котором нет ни прошлого, ни будущего». Он говорил, что Россия приняла христианство от безнадежно устаревшей Византии, которую в то время другие народы презирали. Это не позволило стране идти рука об руку с цивилизованными государствами [1, С. 36-38]. Мысль эта была особенно тягостна прогрессистам, в кои ряды входил и император.
Чаадаев часто упоминал русское крестьянство, и говорил, что в русской нации нет единства, которое образуется приверженностью народа к своим традициям и упорным стремлением к предначертанной цели. В этом, по его мнению, было виновато православие, которое, едва появившись на Руси, привело к закрепощению крестьян. Русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, ведь православная церковь не возвысила свой голос против угнетения и, по Чаадаеву, «одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся» [1, С. 44]. Религиозные мысли Чаадаева отличались неслыханной для тогдашней России новизной. Вопреки православному богословию, Петр Яковлевич использовал библейские тексты для осмысления земных проблем.
Петр Яковлевич верно заметил, что в то время российской исторической науке не хватало крупных обобщений по проблемам особенностей истории России. Труды историков были перегружены фактами, носили описательный характер, что, впрочем, понятно, ибо в начале XIX века одной из крупнейших задач исторической науки было восстановление облика Руси, окутанного пеленой времен.
Чаадаев претендовал на большее. Он задавался вопросом: почему исторический путь России пролегал так, а не иначе? Чем она отличалась от передовой, по его убеждению, Западной Европы? Причем Петр Яковлевич откровенно причислял себя к патриотам, но без «блаженного» любования деяниями предков. Он воспринимал историю не столько как науку о прошлом, сколько видел в ней средство поиска основных направлений развития страны без просчетов, неудач и ошибок минувших веков. Главными их них Чаадаев считал социальную инертность масс, когда все нововведения шли сверху, от власти, а уделом народа было покорное исполнение «высочайших повелений». В этом, с одной стороны, он видел многовековое влияние Востока, а с другой – неосознанность российским государством своей исторической миссии и жившего по принципу «как бог на душу положит». От Востока Россия восприняла замкнутость, самоуглубленность, покорность, социальную инертность и безропотное служение власти. Одновременно ее влекло к Западу, стоявшему на другом полюсе исторической жизни, где ключом была социальная активность различных слоев населения, общество стремительно развивалось и упорно насаждало свое мировосприятие в других странах. Его восхищали достижения европейцев в технике, науке, культуре, градостроительстве, ухоженности повседневного быта, которые становились для России предметом подражания, порождали стремления вкусить плодов прогресса [1, С. 74-78].
Успехи Западной Европы Чаадаев связывал с осознанием европейскими странами исторической миссии в сочетании с объединяющими идеями, способными вдохнуть энергию в миллионы людей. Петр Яковлевич полагал, что эти идеи были даны Европе самым провидением, которое помогло европейцам найти свой путь в истории. Россия же была обделена высшим промыслом и, не найдя смысла своего исторического бытия, прозябала на обочине прогресса или шла в ученичество к более передовым странам, в данном случае к западноевропейским. Отсутствие в России пророков и божьих посредников привело к полному уничтожению традиций в самом зародыше [1, С. 80-82].
Перелом наступил с Петра Великого. Целеустремленный и энергичный император развернул Россию лицом к Западу. С Петра I началось насыщение безбрежных пространств России западноевропейской цивилизацией, которая в определенном смысле была универсальной. В этом Чаадаев видел исторический подвиг Петра, не учитывая, что рост импортной культуры осуществлялся за счет национальной, носителем которой был народ. В результате было положено начало складыванию острых противоречий: отторгалась крестьянская Россия, господствующей становилась культура дворянская, по сути западноевропейская. Формировались два общества, переставшие понимать друг друга. Крестьянство оставалось верным православию. Над ним стоял класс господ, отказавшийся от национальных традиций. Впереди страну ждали острые социальные катаклизмы.
П.Я. Чаадаев не единственный связывал петровские реформы с поворотом Московской Руси ну путь западноевропейского развития. Так ли это? Если задуматься, то, как ни парадоксально, весь процесс исторического развития Руси был обратным тому, что протекал в Западной Европе. За рубежом стремились к свободе, расширению прав личности, созданию благоприятных условий для политической и экономической активности. При Петре I, напротив, крепостная неволя достигла крайних пределов. Петровские преобразования осуществлялись благодаря подневольному, кабальному, холопскому труду миллионов крестьян. Основной причиной торжества подневольного труда было то обстоятельство, что Российская империя строилась на скудном экономическом базисе. Для реализации имперских устремлений от России требовались исключительное напряжение сил, железная дисциплина, воля и самоотверженность миллионов людей, поэтому утверждения П.Я. Чаадаева о дремоте русского народа, с этой позиции, лишены оснований.
Публикация «Философических писем» дала мощный толчок к развитию философской мысли в России. Чаадаеву впервые удалось сформулировать те идеи, по которым русских мыслителей стали относить к западникам. Фактически с него отсчитывается вся русская национальная философия. Это стало важным этапом в формировании русского исторического самосознания. По словам А. Григорьева, оно «было той перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенных, то не разъединенных лагеря мыслящих и пишущих людей» - западников и славянофилов. Это разделение не носило враждебного характера. Интерес и уважение к взглядам Чаадаева были свойственны и тем, и другим. Позже Герцен говорил о спорах западников и славянофилов: «Мы подобны двуликому Янусу, у нас одна любовь к России, но не одинаковая» [15, С. 114].
В 1836 году Чаадаеву все-таки удалось найти издателя – им оказался издатель журнала Телескоп, профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин. Цензором стал ректор Московского университета, профессор восточной словесности Алексей Васильевич Болдырев, которому как-то вечером Надеждин и рассказал о «Философических письмах», а тот, уже престарелый, почти не слыша и не видя, сказал, что цензура подобное произведение пропустит. Позднее на допросе Надеждин оправдывался, что невнимательно прочитал представленное произведение, проявив халатность. Цензора лишили чина, самого Надеждина отправили в ссылку в Усть-Сысольск, для автора же было придумано весьма оригинальное наказание – его объявили сумасшедшим, предписывался домашний арест и ежедневное посещение доктора. Дело Чаадаева считается первым известным случаем, когда психиатрия была использована в России для подавления инакомыслия.
Теперь жизнь Чаадаева стала не жизнью вовсе, а образом жизни. Маркиз де Кюстин даже сказал: «Не было рудника, готового принять этого нечестивца, предавшего своего бога и своих предков» [46, С. 135]. В европейской литературе в это уже время утвердился, распространился и стал популярным жанр эпистолярного самовыражения, жанр письма не для личного потребления, а для публичного вразумления. Появись подобный текст где-нибудь в тогдашней Европе, он бы дал повод вялым академическим прениям, которые бы затронули узкие круги, но в России, где прошлое являлось прерогативой государства, он вызвал национальный скандал. Студенты Московского университета пришли к главе цензурного комитета графу Строганову с заявлением, что готовы с оружием в руках вступиться за оскорбленную Чаадаевым Россию. Министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров представил Николаю I соответствующий доклад, царь начертал: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного» [33, С. 67].
Проводя аналогии с заточением Максима Грека, изгнанием Курбского, ссылкой Новикова и Радищева, ученый П.В. Кузнецов считает, что объявление Чаадаева сумасшедшим являлось достаточно мудрым и милосердным актом [45, С. 184]. Как бы то ни было, именно власть защитила его от общественного гнева, сделав из умника и гордеца юродивого, с которого уже совсем иной спрос. Хотя, собственно, гонений быть не могло, потому что Чаадаев не являлся ни чиновником, ни официальным лицом. Он после отставки вообще всю жизнь нигде не работал. Можно говорить о том, что человек даже не занимал как такового места в культуре.
Даже, несомненно, уважавший Чаадаева А.С. Пушкин не смог принять мысли философа. В ответ на историософские вопрошания друга тот противопоставлял всего лишь событийный ряд фактов из русской истории, тогда как Чаадаев говорил о смысловых сущностях. Диалога между ними не получилось. Впрочем, в заключительной части своего письма Пушкин отчасти солидарен с писателем, так что предметом их полемики стало не рассуждение о наличии или отсутствии у России недостатков, а об историческом пути нашей страны. Необходимо отметить, что взгляды «солнца русской поэзии» не стали реакцией на публикацию «Философического письма», а были присущи мировоззрению Александра Сергеевича на протяжении всей его жизни. Точки соприкосновения все же были в их творчестве. Например, в ответ на стихотворение Пушкина «Клеветникам России», которым были шокированы прогрессивные интеллектуалы того времени, Чаадаев хвалил его: Вот вы и национальный поэт». Чаадаеву импонировало, что Пушкин сформулировал миссию России, возможность ее активной позиции в историческом процессе [2, С. 196-211].
Взаимосвязь между русской философской мыслью и литературой в этот период очень важна, поскольку в отсутствие других площадок для политических дискуссий, литература и литературная критика сыграли важную роль в обеспечении этой дискуссии, иногда в открытой форме, а иногда в зашифрованном виде. Это эпоха философских дискуссионных кружков, где люди из разных интеллектуальных слоев обсуждали последние события, европейскую философию и ее применимость к России. Это также расцвет так называемых «толстых журналов», где публиковались последние произведения художественной литературы и поэзии, наряду с литературоведческими трудами, а также статьи по истории, философии и естественным наукам. Поэтому однозначного водораздела между русской литературой и философской мыслью в исследуемый промежуток времени практически нет.
Чаадаев был обречен на отшельничество в своем доме на Басманной улице. Его подвергли принудительному освидетельствованию, навсегда лишили права печататься и оставили под надзором врача, который ежемесячно докладывал о состоянии «больного» царю. «Если он сумасшедший, то кто же здоров?!» - примерно такое «медицинское заключение» пересказывали друг другу люди, сочувствовавшие Чаадаеву. После первой же встречи доктор сказал своему пациенту: «Если б не моя семья, жена да шестеро детей, я бы им показал, кто на самом деле сумасшедший». Унизительный надзор полицейского лекаря был снят лишь в 1837 году на очередную годовщину интронизации Николая Павловича. До конца дней Чаадаев так и просидел в своем басманном флигельке затворником, еще при жизни превратившись для многих горящих умов в легенду. Михаил Юрьевич Лермонтов написал: «Великий муж! Здесь нет награды, / Достойной доблести твоей! / Ее на небе сыщут взгляды, / И не найдут среди людей. / Но беспристрастное преданье / Твой славный подвиг сохранит, / И услыхав твое названье, / Твой сын душою закипит. /
Свершит блистательную тризну / Потомок поздний над тобой / И с непритворною слезой / Промолвит: «он любил отчизну!».
Портрет Чаадаева последнего десятилетия монументален. Являясь в благородное собрание, он становился в стороне у колонны возле двери, но никогда не терялся в толпе. Все в нем приковывало внимание: череп голый, прямая осанка, руки, скрещенные на груди буквой V как знак «вето», и презрительно сжатые губы. Казалось, только презрение могло примирить его с обществом, без которого он не мог обходиться. Своеобразное «позерство» было, скорее, вынужденным поведением, поскольку Петр Яковлевич не ощущал восприимчивости собственных идей и для этого использовал стимул для остальных людей.
Закат своей жизни Чаадаев провел в нищете, половицы флигеля проваливались, потолок провисал. Как-то он выронил из дрожек пальто-жак и, проискавши его до полуночи, возвратился домой. Пропажу нашел фонарщик и отправил в канцелярию господина обер-полицмейстера, откуда ее никак нельзя было вызволить до четверга. В письме к нему Чаадаев написал: «Войдите, Ваше превосходительство, в мое положение, сжальтесь над моей наготой и милостивым предстательством Вашим перед Его Превосходительством, возвратите мне, если можно без нарушения закона, мой бедный пальто: прошу вас покорнейше между прочим принять в соображение, что при долговременном его странствии в том светлом мире, где он находится, могут в него проникнуть разные насекомые» [2, С. 648]. Он стал смиренным, не раз исповедовался и причащался в последние свои времена.
В один из апрельских дней 1856 года работники московской газеты «Ведомости» пережили глубокое чувство профнепригодности: журналисты не могли подобрать слова для обычной траурной заметки. Как представить умершего: «государственный сумасшедший», «московский Сократ», «дамский философ»? Умер Петр Яковлевич 14 (26) апреля 1856 года от воспаления легких, оставив свои материальные дела в полном расстройстве. Отпевание было назначено в церкви святых Петра и Павла на Басманной улице. В «Ведомостях» его обозначили как «московского старожила».
Его труды с большими цензурными изъятиями были изданы через много лет после смерти. Он стал одним из первых интеллигентов в России, тем, кому были свойственны отвращение к насилию, сострадание к слабым и бесправным, широкая образованность и независимое мышление. Чаадаев внес огромный вклад в развитие общественной мысли России. Основное наследие Чаадаева-философа составили «Философические письма» и «Апология сумасшедшего», в которой он повторил мысль о географической предрасположенности России к политическому величию и умственному бессилию. Влияние Чаадаева на умы было запредельным: бесплодный гений оплодотворил всю русскую литературу – Чацкий, Евгений Онегин, Хлестаков, Печорин, князь Мышкин, Пьер Безухов – в каждом из них течет кровь «лишнего человека» Чаадаева. В российской истории он остался символом инакомыслия и негативного патриотизма.
Когда-то один из учеников русского церковного деятеля Иосифа Волоцкого высказал мысль, что мнение есть второе падение. Русскому самосознанию чрезвычайно присуща критика и то, что один из русских мыслителей позволил себе, быть может, несправедливо и излишне резко высказаться о русской истории, столь нелицеприятно и столь необычно, свидетельствовало о том, что национальный организм был здоров. В той интеллектуальной дуэли, которая состоялась между Чаадаевым и Николаем I, все-таки победителем выходит Петр Яковлевич. Как писал Герцен, «насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена» [15, С. 268]. Чаадаев со своим поступком является некой загадкой русской истории. Недаром Осип Мандельштам скажет: «Из «Философических Писем» можно только узнать, что Россия была причиной мысли Чаадаева. Что он думал о России — остается тайной [49, С. 533]».
Список использованной литературы и источников
- Чаадаев, П.Я. Философические письма [Текст] / П.Я. Чаадаев. – М. : Римис, 2011. – 272 с.
- Чаадаев, П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 2 [Текст] / П.Я. Чаадаев. – М., «Наука», 1991. – 681 с.
- Авдеева, Л.Р. Русские мыслители: Ап.А. Григорьев, Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов [Текст] / Л.Р. Авдеева. - М.,1992. – 345 с.
- Белинский, В.Г. Избранные письма. Т.1 [Текст] / В.Г. Белинский. - М.,1955. – 655 с.
- Бердяев, H.A. Русская идея [Текст] / Н.А. Бердяев // Вопросы философии. - 1990. - № 1. – С. 34-47.
- Богданов, А.В. П.Я. Чаадаев как социолог [Текст] / А.В. Богданов // Социология. – 2008. - № 3. – С. 96-108.
- Богданов, А.В. проблемы теории познания в философии П.Я. Чаадаева [Текст] / А.В. Богданов // Философия и общество. – 2009. - № 1. – С. 201-205.
- Богданов, А.В. Неизвестный Чаадаев [Текст] / А.В. Богданов // Философия и общество. – 2009. - № 2. – С. 136-152.
- Булгаков, С.Н. Христианский социализм [Текст] / С.Н. Булгаков. - Новосибирск, 1991. – 567 с.
- Вигель, Ф.Ф. Записки [Текст] / Ф.Ф. Вигель. - М., 1928. – 453 с.
- Вяземский, П.А. Старая записная книжка [Текст] / П.А. Вяземский. - Л.,1928. – 275 с.
- Галактионов, A.A., Никандров, П.Ф. История русской философии [Текст] / А.А. Галактионов. - М.,1961. – 789 с.
- Герцен, А.И. Былое и думы [Текст] / А.И. Герцен. - М. : Эксмо, 2007. - 640 с.
- Гершензон, М.О. Грибоедовская Москва. П.Я. Чаадаев. Очерки прошлого [Текст] / М.О. Гершензон. - М.,1989. – 356 с.
- Гершензон, М.О. Славянофильство [Текст] / М.О. Гершензон // Вопросы философии. - 1997. - №3. – С. 113-129.
- Гиренок, Ф.И. Пушкин и Чаадаев: ум в поисках слова [Текст] / Ф.И. Гиренок // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия. – 2006. - № 6. – С. 33-41.
- Гиренок, Ф.И. Запад и Восток Петра Чаадаева [Текст] / Ф.И. Гиренок // Родина. – 2015. - № 4. – С. 60-67.
- Григорьян, М.М. Чаадаев и его философская система [Текст] / М.М. Григорьян - М.,1956. Вып.2. – 344 с.
- Дмитриев, Н.А. Основатель славянофильства [Текст] / Н.А. Дмитриев // Русская история. – 2010. - №3/4. – С. 102-105.
- Добровольский, Ю.В. П.Я. Чаадаев: феномен общественного интереса [Текст] / Ю.В. Добровольский // Отечественная истории. – 2007. - № 5. – С. 187-192.
- Ермичев, А.А. Ладья у подножия креста. О проблеме разума у П.Я. Чаадаева [Текст] / А.А. Ермичев // Вопросы философии. – 2000. - № 12. – С. 171-179.
- Ермичев, А.А. По ту сторону западничества и славянофильства: об основной ориентации русской мысли [Текст] / А.А. Ермичев // Материалы 1-го Российского Философского конгресса "Человек философия - гуманизм". Т.2. - СПб., 1997. – С. 78-91.
- Жихарев, М.И. Докладная записка потомству о П.Я. Чаадаеве [Текст] / М.И. Жихарев // Русское общество 30-х гг. XIX в. М.,1989. – 422 с.
- Зеньковский, В.В. История русской философии [Текст] / В.В. Зеньковский - Л., 1991. – 589 с.
- Златопольская, A.A. Д.И. Шаховской исследователь философско-исторических взглядов П.Я. Чаадаева [Текст] / А.А. Златопольская // Русская философия: новые решения старых проблем. - СПб., 1993. – С. 24-50.
- Золотовский, Ю.Л. История и предназначение России в философии П.Я. Чаадаева [Текст] / Ю.Л. Золотовский // Философские науки. – 2007. - № 10. – С. 72-90.
- Каменский, З.А. Грановский [Текст] / З.А. Каменский. - М.,1989. – 378 с.
- Каменский, З.А. Надеждин. [Текст] / З.А. Каменский. - М., 1984. – 226 с.
- Каменский, З.А. О современных прочтениях П.Я. Чаадаева [Текст] / З.А. Каменский // Вопросы философии. 1992. № 12. - С. 136-138.
- Каменский, З.А. Парадоксы Чаадаева. Вступительная статья [Текст] / З.А. Каменский // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма Т.1. М.,1991. – С. 3-7.
- Каменский, З.А. П.Я. Чаадаев [Текст] / З.А. Каменский. - М., 1946. – 400 с.
- Карамзин, Н.М. Записка о древней и новой России [Текст] / Н.М. Карамзин. - М., 1991. - 127 с.
- Киселев, А.Ф. Перечитывая Чаадаева [Текст] / А.Ф. Киселев // Высшее образование сегодня. – 2008. - № 5. – С. 10-13.
- Кузнецов, П.В. Метафизический нарцисс: П.Я. Чаадаев и судьба философии в России [Текст] / П.В. Кузнецов // Вопросы философии. – 1997. -№8. – С. 175-190.
- Кюстин, А. Россия в 1839 году [Текст] / А. Кюстин. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996 – 528 с.
- Лебедев, A.A. Чаадаев [Текст] / А.А. Лебедев. - М.,1965. – 633 с.
- Мандельштам, О.Э. Собрание сочинений в 4 томах. Том второй. Проза [Текст] / О.Э. Мандельштам. - М.: Терра, 1991. – 730 с.
- Милюков, П.Н. Пушкин и Чаадаев [Текст] / П.Н. Милюков // Русская речь. -1994. - № 3. – С. 165-174.
- Надеждин, Н.И. Два ответа Надеждина Чаадаеву [Текст] / Н.И. Надеждин // Чаадаев П.Я. Сочинения. М.,1989. – С. 139-144.
- Полищук, И.С. Светочи русского просвещения: П.Я. Чаадаев [Текст] / И.С. Полищук // Философия и общество. – 2006. - № 2. – С. 153-166
- Смирнова, З.Н. Проблема разума в философской концепции Чаадаева [Текст] / З.Н. Смирнова // Вопросы философии. – 1998. - №11. – С. 91-101.
- Соловьев, Э.Г. Либеральный консерватизм в России: апология сумасшествия или голос разума (на примере творчества П.Я. Чаадаева) [Текст] / Э.Г. Соловьев // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 1996. - № 4. – С. 79-94.
- Судьин, Г.Г. А.С. Пушкин как оппонент П.Я. Чаадаева [Текст] / Г.Г. Судьин // Вестник Московского университета. Сер 7, Философия. – 1999. - № 5. – С 3-29.
- Тарасов, Б.Н. Чаадаев [Текст] / Б.Н. Тарасов. – М. : Мол. Гвардия, 1990. – 575 с.
- Ульянов, Н.И. "Басманный философ" [Текст] / Н.И. Ульянов // Вопросы философии. - 1990. - № 8. – С. 45-70.
- Усакина, Т.И. Памфлет М.Н. Загоскина на П.Я. Чаадаева и М.Ф. Орлов [Текст] / Т.И. Усакина // Декабристы в Москве. М., 1963.Вып.VIII.- С. 90-95.
- Флоровский, Г.В. Пути русского богословия [Текст] / Г.В. Флоровский. - Париж, 1988. – 390 с.
- Черепанова, Р.С. Петр Чаадаев мифический и реальный [Текст] / Р.С. Черепанова // Общественные науки и современность. – 2001. - № 3. – С. 102-109.
- Чернышевский, Н.Г. Апология сумасшедшего [Текст] // Полное собрание сочинений / Н.Г. Чернышевский. - M.,1950.T.VII. – 340 с.
- Шабельникова, В. Петр Чаадаев: горе уму [Текст] / В. Шабельникова // Будь здоров! – 2010. - № 2. – С. 89-93.
- Шаховской, Д.И. Грибоедов и Чаадаев [Текст] / Д.И. Шаховской // Литература в школе. - 1988. - № 4. – С. 213-217.
- Щеглова, Л.В. Национальный культурный проект в идейном мире П.Я. Чаадаева [Текст] / Л.В. Щеглова // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия. – 2000. - № 1. – С. 36-45.
- Щеглова, Л.В. История и традиции в мировидении П.Я. Чаадаева [Текст] / Л.В. Щеглова // Журнал прикладной философии. – 2000.- № 2. – С. 3-9.
- Щеглова, Л.В. Радикальный монотеизм в историософии П.Я. Чаадаева [Текст] / Л.В. Щеглова // Философские науки. – 2000.- № 2. – С. 76-86.
- Aizlewood, R. «Revisiting Russian Identity in Russian Thought: From Chaadaev to the Early Twentieth Century» / R. Aizlewood // Slavonic and East European Review. – 2000. - № 78. – P. 20-43.
- Janusz «Petr Chaadaev and the Rise of Modern Russian Philosophy» / Janusz // Studies in East European Thought. – 2000. - № 54. – P. 25-46.
- Epstein, M. «The Phoenix of Philosophy: On the Meaning and Significance of Contemporary Russian Thought» / M. Epstein // Symposion: A Journal of Russian Thought. – 1996. - № 1. – P. 35-74.
- Peterson Dale, E. «Civilizing the Race: Chaadaev and the Paradox of Eurocentric Nationalism» / Dale E. Peterson // Russian Review. – 1997. - № 56. – P. 55-63.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»