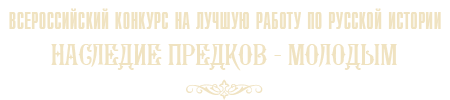- 1. Восприятие маньчжурского кризиса руководством Советского Союза
- 2. Маньчжурский кризис и советское военное строительство
- 3. Мобилизационные усилия на Дальнем Востоке
По мнению некоторых современных исследователей, начиная с подписания в январе 1925 г. Пекинской конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией, восстанавливавшей дипломатические отношения между странами, и вплоть до весны 1932 г. советско-японские отношения оставались вполне мирными и в целом не были омрачены никакими серьёзными проблемами[1, с. 523]. Эту точку зрения можно было бы полностью принять, если бы не выраженная буквально за неделю до инцидента (т.е. 11 сентября 1931 г.) Л. М. Кагановичем в послании к И.В. Сталину обеспокоенность по поводу «серьёзных осложнений в наших отношениях с Японией и без того не особенно блестящих из-за рыбных дел» [2, с. 94.]. Генсек отреагировал через три дня, лаконично заметив, что «с Японией нужно поосторожнее <…> тактика должна быть погибче, поосмотрительнее» [2, с. 103].
Стоит упомянуть, что начало маньчжурского инцидента не стало большой неожиданностью для Москвы, поскольку ещё за месяц стало известно о подготовке японцами захвата Маньчжурии и общем увеличении напряжённости между Китаем и Японией[3, с. 58]. Что касается сентября 1931 г., то после первичного наведения справок по каналам НКИД к делу подключились и партийные лидеры. 20 сентября Политбюро (ПБ) возложило на заместителя наркома по иностранным делам Л.М. Карахана, (который ещё со времён совместной работы с Г.В. Чичериным руководил восточными отделами наркомата), обязанность срочно добиться от японцев дополнительных сведений и затем уведомить ответственных товарищей, которые пока откладывали какие-либо шаги в отношении маньчжурского инцидента [4, с. 65]. В тот же день заместитель И.В. Сталина по партии Л.М. Каганович уведомил «хозяина» о безрезультатном обсуждении японо-китайского конфликта на заседании ПБ, объяснив это тем, что «обстановка требует от нас осторожности и выдержки» [2, с. 113]
Однако далеко не все руководители СССР считали возможным проявить сдержанность. М.М. Литвинов, в частности, предлагал «выступить с официальным запросом и взять в печати резкий тон в отношении Японии»[Там же], но, судя по всему, поддержки подобные проявления нервозности со стороны наркома по иностранным делам (что особенно удивительно, учитывая его должность), не получили.
23 сентября 1931 г. в послании Л.М. Кагановичу и В.М. Молотову нашла своё отражение первая документально подтверждённая реакция И.В. Сталина на события в Маньчжурии: «Вероятнее всего, что интервенция Японии проводится по уговору со всеми или некоторыми великими державами на базе расширения и закрепления сфер влияния в Китае…» [2, с. 116]. Учитывая эту точку зрения, фактически определявшую дальнейшую линию поведения в отношении маньчжурского инцидента, можно согласиться с позицией В.В. Чубарова, полагающего, что первоначально советское правительство (как, впрочем, и правительства западных стран), не придало серьёзного значения действиям Квантунской армии и считало, что Япония осуществляет акцию, близкую по содержанию советской в 1929 г., направленную на то, чтобы «наказать» китайцев, которые не хотят выполнять существующие договорённости [5, с. 119-120].
Кроме того, по мнению И.В. Сталина, какое-либо вмешательство, в том числе дипломатическое, исключалось, «так как оно может лишь объединить империалистов, тогда как нам выгодно, чтобы они рассорились»[2, с. 116]. Однако, тем не менее, представлялось необходимым «запросить японцев, чтобы они держали нас в курсе событий, конечно, следует, но одновременно нужно запросить китайцев, хотя бы через Харбин»[Там же].
Аналогичные указания относительно «аккуратного информирования Москвы о происходящих событиях» и уклонении от любых демонстративных шагов и даже разъяснений, были направлены Политбюро в адрес советских дипломатов[4, с. 66]. Иными словами, советское руководство на данном этапе решило занять выжидательную позицию и пока лишь наблюдало за происходящим со стороны, хотя, например, М.М. Литвинов дал визу на публикацию в «Известиях» 23 сентября 1931 г. стихотворения Демьяна Бедного «Что дальше?», в котором, по мнению Л.М. Кагановича, был «прямой выпад в отношении нашей политики»[6, с.136-137]. С точки зрения М. Алексеева, поэт вряд ли мог по собственной инициативе позволить себе выразить недоумение по поводу «молчания Москвы» во время японского вторжения в Китай[7, с. 480].
Следует отметить, что, по данным М. Алексеева, 24 октября 1931 г. советский разведчик Р. Зорге, работавший тогда в Шанхае, впервые доложил в Москву о подготовке Японией войны с Советским Союзом весной 1932 г.[7, с. 412.]. В своей шифровке Зорге опирался на «непосредственное сообщение от Семёнова» (имеется в виду атаман Г.М. Семёнов). Учитывая, что исследователь не приводит ссылки на источник своих сведений, проверить их достоверность представляется затруднительным, равно как и оценить влияние, которое подобная информация могла оказать на советское руководство.
Тем не менее, исходя из последующих событий, можно сделать вывод о том, что какие-то доклады могли достаточно существенно повлиять на политику советского руководства. Дело в том, что уже 1 ноября 1931 г. было принято постановление Политбюро о немедленном возвращении полпреда (полномочного представителя) в Японии А.А. Трояновского к месту службы[4, с. 70] и дополнительно подтверждаемое воспоминаниями его сына о срочном отзыве отца из отпуска осенью того же года[8, с. 48]. Больше того, буквально на следующий день, согласно записям в журнале посещений кремлёвского кабинета И.В. Сталина, А.А. Трояновский посетил резиденцию генсека[9, с. 50]. Беседа-инструктаж, продолжалась около получаса, в течение которого, как утверждает О.А. Трояновский в своих мемуарах, «отец получил благословение Сталина расширить связи с правыми и даже крайне реакционными элементами»[8, с. 51].
18 ноября подразделения Квантунской армии захватили Цицикар, и впервые вышли к линии КВЖД, что означало по сути прекращение безопасного существования железной дороги, ранее вполне защищённой от вторжения извне. На следующий день 19 ноября 1931 г. вице-министр иностранных дел Японии Ногаи сообщил полпреду А.А. Трояновскому, что японским солдатам и офицерам дан специальный приказ ни в коем случае не причинять КВЖД какого-либо ущерба и пообещал, что войска через четыре-пять дней уйдут из Цицикара на юг[10, с. 112].
Вполне вероятно, что именно описанные выше события тем или иным образом могли подтолкнуть И.В. Сталина к тому, чтобы изменить свою позицию относительно угрозы, которую представляли для СССР действия Японской империи. Дело в том, что генсек 27 ноября 1931 г. направил наркомвоенмору К.Е. Ворошилову письмо, которое, по мнению В.П. Сафронова, можно считать пусть и весьма условным, но всё же неким поворотным пунктом в воззрениях Сталина на цели японского вторжения в Маньчжурию[3, с. 365]. В.П. Сафронов полагает, что если до появления этого документа Сталин пребывал в искреннем убеждении о несомненном существовании сговора крупнейших империалистических держав, направленном на раздел Китая на сферы влияния и ещё не был уверен в наличии определённой военной угрозы для Советского Союза, то теперь главный упор делался именно на этот аспект: «Япония задумала захватить не только Маньчжурию, но, видимо, и Пекин с прилегающими районами<…> Более того, не исключено и даже вероятно, что она протянет руку к нашему Дальвосту<…> Возможно, что этой зимой Япония не попытается тронуть СССР. Но в будущем году она может сделать такую попытку»[11, с. 161-162].
Таким образом, можно заключить, что в соответствии со складывающейся ситуацией должна была меняться и внутренняя политика СССР. По мнению Сталина, «…главное теперь – в подготовке обороны на Дальвосте. Мы уже начали делать кое-что в этой области»[11, с. 162-163]. Действительно, в ноябре 1931 г. были приняты определенные решения по Дальнему Востоку. Так, 12 ноября 1931 г. К.Е. Ворошилов представил в Комиссию обороны (КО) доклад, в котором изложил программу развития морских сил СССР до 1935 г., разработанную Реввоенсоветом. По мнению руководителя военного ведомства страны, новая программа судостроения «заново организует оборону <…> Дальневосточного побережья»[12, с. 103]. 14 ноября на заседании КО было принято решение «особое внимание обратить на выявление возможностей строительства в 1932 г. и предусмотреть усиление ДВ (Дальнего Востока) путём перераспределения намеченных к строительству объектов»[12, с. 105].
Таким образом, как минимум уже к середине, а то и к началу (но никак не к концу) ноября 1931 г. руководство Советского Союза, и, главным образом, сам И.В. Сталин, начинает постепенно осознавать опасность, которую таит в себе дальнейшее продвижение Японии на территории северо-восточного Китая.
По мнению В.В. Чубарова, период с февраля по июнь 1932 г. был своеобразным ренессансом в советско-японских отношениях[5, с. 121]. Действительно, в феврале 1932 г. Советский Союз официально разрешил использовать КВЖД для перевозки японских войск и военных грузов[4, с. 77], несмотря на явное нарушение советско-китайских соглашений 1924 г., а в марте того же года СССР заключил контракт о поставке советского бензина в Маньчжоу-го[5, с. 121]. Однако, существуют аргументы, не позволяющие безоговорочно разделить подобную позицию.
31 марта 1932 г. на железнодорожном вокзале в г. Харбине был арестован японо-маньчжурскими властями некто Базанов с чемоданом взрывчатых веществ. На допросе он заявил, что прибыл в Харбин из Владивостока с целью «создания беспорядков в Северной Маньчжурии»[13, с. 758]. «Дело Базанова» послужило началом целой серии провокаций на КВЖД и массовых арестов советских граждан – служащих КВЖД[13, с. 760], что, разумеется, не улучшало отношений между СССР и Японской империей.
Нельзя сбрасывать со счетов и перемены внутри самой Японии. В декабре 1931 г. к власти пришло новое правительство премьер-министра Инукаи Цуёси, кресло военного министра в котором занял генерал-лейтенант Араки Садао, именовавшийся в лучших традициях советской пропаганды не иначе как «наглый, сверкающий галунами милитарист»[14, л. 78]. «Инцидент 15 мая» 1932 г., когда был убит премьер-министр Инукаи, не решил проблему. У руля встал кабинет адмирала Сайто Макото, стремившийся проводить компромиссный политический курс, представлявший среднюю линию между требованиями экстремистских кругов, (объединявшихся вокруг Араки) и прежней политикой парламентского кабинета Инукаи[15, с. 27]. Однако пост военного министра сохранил генерал Араки, являвшийся одновременно и лидером группы (фракции) «Императорского пути» («Кодо-ха»), существовавшей в тогдашней японской армии и основывавшей стратегическую доктрину на том, что главным врагом империи является СССР[16, с. 216].
В СССР такой ход событий вызывал тревогу и споры внутри руководящей элиты в июне 1932 г. Приняв сторону командующего ОКДВА В.К. Блюхера, который считал, что необходимо «обстрелять японские аэропланы, как только они перелетят через границу, т.е. через середину реки Амур», К.Е. Ворошилов предлагал обстреливать японцев, «если они действительно перелетят границу или будут летать в районе нашей флотилии»[2, с. 135]. Однако, по мнению Л.М. Кагановича, Ворошилов совершил крупную ошибку, не посчитав необходимым «этот вопрос не только поставить на обсуждение, но даже оповестить нас или прислать копию телеграммы»[Там же]. Каганович предлагал до поры до времени «категорически запретить стрелять и точно информировать о всех случаях Москву»[Там же], и уведомил о происходящем И.В. Сталина. Генсек поддержал своего заместителя по партии, отметив, что «подобные вопросы и «инциденты»…должны решаться во всех мелочах исключительно Москвой», и посоветовав заодно «держаться до конца этой установки и не поддаваться (ни в коем случае!) воплям т. Блюхера»[2, с. 141].
Стремление советского руководства во чтобы то ни стало сохранить выдержку, принесло свои плоды уже через пару месяцев, когда один из виновников скандала, К.Е. Ворошилов в письме к Г.К. Орджоникидзе от 2 августа заметил, что «японцы пока заняты своими манчжурскими делами…У нас с ними тоже затишье»[17, с. 126].
Нельзя утверждать, что затишье продолжалось в течение всего следующего года, поскольку, новый виток напряжённости мог возникнуть после 13 декабря 1932 г., когда министр иностранных дел Японии Утида Ясуя вручил советскому полпреду А.А. Трояновскому конфиденциальную ноту с отказом от подписания пакта о ненападении. Официальной мотивировкой было то, что обе страны подписали Антивоенный пакт (пакт Бриана - Келлога), который делал дополнительные двусторонние соглашения излишними[1, с. 524].
Кроме того, следует, на наш взгляд, учитывать мнение А.С. Ложкиной, которая справедливо предлагает считать началом открытой антияпонской пропаганды октябрь 1933 г., когда в советской прессе начинает появляться всё больше критических статей в отношении японского правительства, даётся негативная оценка внешней и внутренней политики дальневосточного соседа[18, с. 10]. К тому времени уже начались переговоры между СССР и Маньчжоу-го при посредничестве Японии о продаже КВЖД. 24 сентября 1933 г. в разгар переговоров, японские пограничники и маньчжурские полицейские арестовали в Харбине шестерых ответственных советских сотрудников дороги[19, с. 264], а 28 сентября Москва заявила, что не будет возобновлять переговоры до освобождения арестованных[20, с. 303].
9 октября ТАСС (а 10 октября в «Правде и в «Известиях») были опубликованы материалы, которые устанавливали ответственность японского правительства за мероприятия, проводимые в Маньчжоу-го в отношении КВЖД[Там же]. Важно подчеркнуть, что по мнению Н.Е. Абловой, существует сразу несколько причин считать эти документы подлинными[19, с. 264]. Однако В.Э. Молодяков отнюдь не убеждён в полном соответствии бумаг японским бюрократическим канонам[20, с. 304].
Так или иначе, но вполне вероятно, что толчком к публикации этих документов послужило письмо И.В. Сталина (без даты), направленное Л.М. Кагановичу и В.М. Молотову, с которым также ознакомились Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микоян и А.А. Андреев. С точки зрения генсека, следовало «начать широкую, осмысленную (но не крикливую!) подготовку и обработку обществ[енного] мнения СССР и всех других стран на счёт Японии и вообще против милитаристов Японии. Надо развернуть это дело в «Правде», отчасти в «Известиях»[21, л. 131].
Ещё в конце лета – начале осени 1931 г. у политического и военного руководства СССР не имелось оснований для какой-либо тревоги относительно положения на Дальнем Востоке. По мнению О.Н. Кена, в ходе своей поездки в восточные районы страны, предпринятой в конце июля – сентябре 1931 г., К.Е. Ворошилов уделил инспектированию ОКДВА ничуть не большее внимание, чем осмотру предприятий Урала и Поволжья[22, с. 268]. Однако Дж. Хаслэм в свою очередь полагает, что поездка была вызвана не только деморализацией и недовольством армии (видимо, имеется в виду ОКДВА) своим экономическим положением, но и поскольку русские не исключали возможности нападения Японии в ближайшем будущем[23, с. 73]. Вероятно, именно эту поездку имел в виду В.К. Путна (в 1932-1934 гг. командующий Приморской группой войск ОКДВА), когда в своём письме К.В. Ворошилову от 1932 г. умело польстил высокому начальству, заметив, что «край несколько лет был нами забыт, был в загоне и Вы, во время Вашей поездки, застали его в состоянии, когда он еле дышал. Ваше вмешательство открыло глаза партии на ДВ»[24, л. 147].
С точки зрения Л. Самуэльсона, К.Е. Ворошилов в ходе своего дальневосточного «турне» обсуждал, помимо всего прочего, необходимость укрепления оборонительных сооружений вдоль границы с Китаем, а также усиления Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии[25, с. 147]. Однако, как отмечает О.Н. Кен, так или иначе, в пятидесятистраничном докладе наркомвоенмора, законченном после возвращения в Москву 19 сентября, не содержалось даже намёка на потенциальную угрозу Советскому Союзу со стороны Японии[22, с. 268].
По мнению Р. Дэвиса[26, с. 584] и И.В. Быстровой[12, с. 68], существенное увеличение как инвестиций в военную промышленность, так и самого производства в октябре – декабре 1931 г. представляло собой начало существенных изменений, что явилось результатом разворачивания активной деятельности японских военных весной 1931 г.(подчёркнуто мной – А.Ф.) и назначения М.Н. Тухачевского «военно-промышленным лидером» (т.е заместителем наркомвоенмора - начальником вооружений РККА). Упоминание Р. Дэвиса о весне 1931 г. как о своеобразном «моменте истины» для советского руководства, на наш взгляд, подтверждается военно-политической сводкой IV-го разведывательного отдела штаба ОКДВА от 1 марта 1931 г. В ней указывалось на проводимую усиленными темпами в Северной Маньчжурии «подготовку новой провокации весной этого [1931] года»[27, с. 21]. Сводка, с ошибкой в полгода указывавшая сроки японского вторжения, была подписана начальником разведотдела Карповым (псевдоним будущего маршала В.И. Чуйкова), в то время фактически возглавлявшем военную разведку на Дальнем Востоке[Там же].
С.Т. Минаков, напротив, полагает[28, с. 386], что связывать возвращение М.Н. Тухачевского (после некоторых обстоятельств военно-политической борьбы 1930 г.) с обострением военно-политической обстановки на Дальнем Востоке не совсем верно, поскольку, «проталкивание» М. Тухачевского в руководство военным ведомством со стороны И.В. Сталина началось уже в январе 1931 г., когда он был введён в комиссию по танкостроению. Кроме того, по мнению исследователя, японская армия летом 1931 г. технически была слабой, лишь в июле того же года было принято решение о её технической модернизации, а оккупация Маньчжурии началась, как известно, только 18 сентября 1931 г., при этом «боевая тревога» в ОКДВА ещё не объявлялась[Там же].
Осознание И.В. Сталиным в начале-середине ноября 1931 г. опасности, которую представляет дальнейшее продвижение Японии к советским границам, было воспринято советским военным руководством с явным удовлетворением. Об этом наилучшим образом свидетельствует содержание письма К.Е. Ворошилова Я.Б. Гамарнику от 6 декабря 1931 г., в котором наркомвоенмор, помимо всего прочего, замечает: «очень хорошо, что Сталин взялся вплотную за Дальвост и промышленность»[11, с. 163].
Широкое поле деятельности вполне очевидно требовало и больших расходов. Как отмечает Р. Дэвис[26, с. 584], подготовка плана на 1932 г. проходила на фоне японского вторжения в Маньчжурию в сентябре 1931 г. и запланированные контрольные цифры для 1932 г., утвержденные решением Совнаркома от 13 декабря 1931 года, увеличивали запланированные инвестиции в военную промышленность до 702 млн. рублей. В рамках этого общего плана было специально отмечено, что потребности в инвестициях для выполнения «расширенных задач» авиации должны быть «полностью удовлетворены», а в другом пункте постановления советского правительства устанавливались нормы «производства и заказов для судостроения» (которое в то время не являлось частью военной промышленности)[26, с. 585].
9 июня 1932 г. генсек интересовался у К.Е. Ворошилова: «подают ли наши промышленники по плану танки, аэропланы, противотанковые орудия? Выполнена ли майская порция. Посланы ли бомбовозы на восток? Куда именно и сколько?»[29, л. 60]. В ответном послании наркомвоенмор вынужден был признаться, что из числа запущенных в серию бомбардировщиков ТБ-3 «только 4 (!) самолёта приняты, и то на поверку оказалось, принятых условно. Выполнение артиллерийской программы идёт также неважно <…> Танковая программа выполняется с большой «натугой»[11, с. 177]. И.В. Сталин ответил наркомвоенмору 24 июня того же года: «…видимо, промышленность не сумела ещё, как следует, перевооружиться применительно к новым (нашим) заданиям. Ничего! Будем нажимать и помогать ей, - приспособится. Приспособятся и будут выполнять программу, если не на все 100%, то на 80-90%. Разве этого мало?»[29, лл. 68-69].
Любопытно, что вероятные результаты «нажима» были обнародованы уже в январе 1933 г. Именно тогда в своей речи на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б), Г.К. Орджоникидзе не только подчеркнул необходимость перехода к наращиванию оборонной индустрии, вызванную в начале 1932 г. «угрозой с Востока», но и высоко оценил качество производимых танков, самолётов, артиллерии, продемонстрированное на традиционном параде в честь 7 ноября[26, с. 589].
Что же касается июньского обмена мнениями между Сталиным и Ворошиловым, то, по мнению О.Н. Кена, в словах генсека трудно разглядеть действительную тревогу перед лицом Японии, которая, как ранее утверждал И.В. Сталин, «может попытаться тронуть СССР»[22, с. 272]. С этой точкой зрения согласен и Л. Самуэльсон[25, с. 156], отмечая, что ещё в марте 1932 г., Штаб РККА провёл расчёты, согласно которым основная часть новых сил должна разместиться в Северном и Западном военных округах (Ленинград, Белоруссия и Украина), тогда как на Дальнем Востоке планировалось развернуть только одну механизированную бригаду. По мнению шведского исследователя, долговременные намерения военных и, соответственно, оценка ими военной угрозы позволяют заключить, что ускоренные темпы выпуска новых танков в 1932 г. лишь в малой степени определялись существованием непосредственной угрозы со стороны Японии[Там же]. Подобная трактовка мотивов действий советского руководства, очевидно, близка О.Н. Кену, утверждающему, что основную ставку советское руководство делало на достижение согласия со страной Восходящего солнца (и создаваемым ею в Маньчжурии марионеточным государством Маньчжоу-го), одновременно громогласно разоблачая «провокационные попытки втянуть СССР в войну» Японии и Китая[22, с. 269-270].
С точки зрения И.В. Быстровой, основные направления и программы развития военной техники, которым был дан старт в начале 1930-х гг., продолжали развиваться в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) и никаких радикальных «скачков» в области перевооружения в этот период уже не происходило. Некоторый сдвиг наблюдался скорее в военной стратегии, в связи со сменой «главного противника» - с Японии на Германию[12, с. 131].
Л. Самуэльсон в свою очередь замечает, что в то время, когда составлялся оборонный раздел проекта второго пятилетнего плана, военные в своих расчётах всё ещё исходили из сценария конфликта СССР с коалицией сопредельных западных государств[25, с. 171]. Но опасность нападения на советский Дальний Восток побудила советское руководство заключить в 1932 г. соглашения о ненападении с пограничными государствами: Финляндией, Латвией и Польшей, а это, таким образом, существенно меняло характер западной угрозы[25, с. 178].
Основываясь на данном тезисе, уже О.Н. Кен приходит к выводу о том, что возможность конфликта с Японией ближайшие два года (1931-1933) оказалась с лихвой компенсирована упрочением мира на Западе, что на два-три года имело, по мнению И.В. Сталина, решающее значение. Также, с его точки зрения, опасность с Востока носила локальный характер и требовала ограниченных действий – перераспределения ресурсов в пользу Дальнего Востока и Сибири[22, с. 278].
Схожей точки зрения придерживается и М. Минц, отмечающий, что если войну с Японией ещё можно было представить себе как локальную, то в случае конфликта на западных границах Советскому Союзу пришлось бы противостоять, по крайней мере, всей Европе[30, c. 179].
Перспектива перерастания противоречий, периодически возникавших в советско-японских отношениях, в нечто большее, с точки зрения О.Н. Кена, до конца 1931 г. если и входила в стратегические расчёты СССР, то и тогда занимала в них не более чем периферийное положение. Подобное утверждение исследователь обосновывает тем, что до начала японской интервенции в Маньчжурии «для обороны д[альне]в[осточных] границ Союза» советское руководство считало нужным выделять «очень незначительные силы» - на осень 1931 г. они составляли 42 (по другим данным - 40.100[27, с. 56]) тыс. человек, 88 самолётов, 16 танков, 20 танкеток, 4 бронемашины и 2 бронепоезда[22, с. 268].
Интересно отметить, что по неким японским оценкам, на которые ссылается Дж. Хаслэм, на сентябрь 1931 г. советские войска в этом регионе располагали не более чем 6-ю стрелковыми дивизиями и 2-мя кавалерийскими бригадами[23, с. 146-147]. О бронетехнике, авиации и артиллерии, в этих оценках почему-то речь не идёт вовсе, хотя известно, что на вооружении ОКДВА находилось 352 орудия среднего и крупного калибра[27, с. 56]. Цифры, весьма схожие с данными, приводимыми исследователем, можно обнаружить в 68-м номере журнала «Часовой» (от 15 ноября 1931 г.). В статье, являющейся, судя по всему, перепечаткой из какого-то зарубежного издания, приводятся данные о том, что «весной нынешнего [1931] года Москва держала в приграничных с Маньчжурией областях 7 пехотных дивизий (из них 6 стрелковых) и 2 отдельные кавалерийские бригады…»[31, л. 359]. Однако эти уже известные нам сведения дополняются указанием на наличие в составе ОКДВА 2-х тяжёлых артиллерийских полков, авиационных и танковых частей и, наконец, нескольких отрядов войск ОГПУ[Там же].
Как считает М. Алексеев, нейтралитет нейтралитетом, а усиливать группировку войск на Дальнем Востоке было жизненно необходимо, и поэтому зимой 1931 г. начались первые переброски воинских частей в ОКДВА[7, с. 482]. Данные относительно возрастания численности советского контингента в ДВК зимой 1931 – 1932 гг. приводит и О.Н. Кен, отмечая, в частности, что погранохрана и войска ОГПУ на востоке были увеличены на 8600 человек[22, с. 269], а в 1933 г., согласно постановлению Политбюро от 27 июля войска погранохраны в Восточной Сибири было решено увеличить ещё на 20% путём укрупнения погранотрядов[4, с. 103].
Тем не менее, несмотря на весьма радужную на первый взгляд картину боеготовности войск на Дальнем Востоке, по мнению Е.А. Горбунова, очень слабым было оснащение автотранспортом: 95 легковых и 273 грузовых и специальных автомашин, а также 50 тракторов на всю армию и 12.000 лошадей[27, с. 56]. Исследователь обращает внимание также на тот немаловажный факт, что командующий ОКДВА В.К. Блюхер должен был управлять частями Приморской группы, находившимися в районе Владивостока, и частями Забайкальской группы, буквально разбросанными от Читы до Иркутска, что при тогдашнем состоянии техники связи делало управление в военное время очень ненадёжным[Там же].
Вероятно, именно поэтому уже вскоре высшие советские военные руководители начали наводить порядок в управлении войсками. Судя по письму от 13 января 1932 г., адресованному К.Е. Ворошиловым Я.Б. Гамарнику, было принято решение «создать из ОКДВА фронтовое, два армейских (приморское и забайкальское направления) и одно (корпусное) соединения», поскольку считалось, что «фронтовой организм должен быть лёгким, оперативного характера»[11, с. 167]. Непосредственное руководство было распределено следующим образом: «Комфронта будет Блюхер. На армии придётся сажать Путна и Горбачёва. Нужно будет одному из помов теперь же засесть в Чите, а другому во Владивостоке»[11, с. 167-168]. Судя по двум письмам[24, лл. 147-150] В.К. Путны наркомвоенмору СССР от 22 февраля и от 10 марта 1932 г., именно он был назначен во Владивосток, а Б.С. Горбачёв - в Читу.
В связи с этими изменениями, как отмечают О.Н. Кен[22, с. 269] и Е.А. Горбунов[27, с. 471], численность ОКДВА с февраля по май 1932 г. возросла более чем в два раза и составляла 140.160 человек (13 стрелковых дивизий). Очевидно, как и в сентябре 1931 г., японские сведения, которые приводит Дж. Хаслэм о составе ОКДВА сильно разнились с реальностью: 8 стрелковых дивизий, 1 кавалерийская дивизия, и, видимо, 11 кавбригад; 200 самолётов и 250 танков[23, с. 146-147]. По мнению самого британского исследователя, к весне 1932 г. советский контингент в ДВК в общей сложности составлял порядка 100 тыс. человек[23, с. 83].
Создание флота на Тихом океане также явилось важной составной частью крупных мероприятий советского правительства по укреплению обороноспособности СССР, тем более что в конце 1920-х годов военно-морских сил, способных решать стратегические задачи на Дальневосточном театре не было[32, с. 11-12]. Так, например, уже к лету 1934 г. Краснознамённая Амурская военная флотилия состояла из дивизиона мониторов, дивизиона канонерских лодок, дивизиона бронекатеров, двух минных заградителей и двух тральщиков[33, с. 105]. Однако, советское правительство безосновательно, по мнению С.Л. Гуринова[34, с. 45], принимало стратегические решения по формированию и развитию Морских сил Дальнего Востока (МСДВ) исходя из того, что они представляют собой организационно вполне оформленный военно-морской флот. Кроме того, подобные решения, с точки зрения В.С. Мильбаха[32, с. 14], проводились в жизнь военно-политическим руководством страны без должной оценки возможностей промышленности и уровня производительных сил региона, в условиях отсутствия чёткого плана строительства и стабильного финансирования, что тормозило развитие инфраструктуры флота.
Японский исследователь Тэраяма К., очерчивая сферы деятельности советского правительства по укреплению обороноспособности дальневосточных рубежей страны, подчёркивает их многообразие. Проводимые мероприятия включали строительство оборонных предприятий, налаживание работы транспорта, обеспечение продовольствием населения и армии, укрепление тыла и повышение мобилизационной готовности[35, с. 157-158].
Началась реализация судостроительной программы на Дальнем Востоке. Были расширены мощности Дальзавода, в 1931 г. разворачивалось строительство Хабаровского завода (Осиповский затон)[36, с. 589] и Благовещенской верфи нефтеналивных барж[37, с. 230]. В 1932 г. началось возведение военно-судостроительного завода в с. Пермское на Амуре (с ноября 1932 г. – г. Комсомольск-на-Амуре)[Там же]. Оно проходило в чрезвычайно трудных условиях, при высокой «текучке» и заболеваемости среди рабочих, в связи с чем, как считает Тэраяма К., правительство поручило ОГПУ, под личную ответственность В.Р. Менжинского, обеспечить переброску на строительство Дальстроя (без учёта семей) 10 тыс. спецпереселенцев-рабочих[35, с. 158].
В качестве отдельного комплекса мероприятий Тэраяма К. предлагает рассматривать организацию особого колхозного корпуса и красноармейских колхозов[35, c. 158]. По мнению Дж. Хаслэма, подобные мероприятия не следует связывать исключительно с маньчжурским кризисом, поскольку Москва пыталась сделать Дальневосточный регион более самодостаточным в экономическом плане, предпринимая для этого усилия ещё до начала японского вторжения в Китай[23, с. 83]. Это подтверждает в своём исследовании Н.В. Тархова, отмечая, что ещё в начале 1931 г. был принят план вербовки в колхозы с привлечением бывших красноармейцев, который предусматривал создание красноармейских колхозов в нескольких регионах, среди них и ДВК. Общий же план вербовки красноармейцев на Дальний Восток был вообще определён в 10.000 человек, что в два раза меньше по сравнению с 1930 г[38, с. 238].
На 1 января 1932 г. эти плановые показатели были перевыполнены и составили 13.482 человека, однако из завербованных выбыло обратно 1.125 человек (8.3%), а по данным ОГПУ, в ряде коммун этот процент значительно превосходил средние показатели, достигая иногда 33 и даже 68.7%[Там же]. Как замечает Дж. Хаслэм, ни постановления СНК СССР от 11 марта 1931 г. о льготах для военнослужащих, увольнявшихся в запас и остававшихся на постоянное жительство в ДВК, и от 23 апреля 1931 г. «О красноармейском переселении в ДВК», ни решения коллегии НК РКИ от 3 июля 1931 г., ни поездка на Дальний Восток в октябре 1931 г. наркома К.Е. Ворошилова не смогли изменить ситуацию к лучшему[23, с. 83].
3 марта 1932 г. для разработки вопроса «О красноармейских колхозах на Дальнем Востоке» была создана комиссия под председательством того же К.Е. Ворошилова, в итоге установившая контингент красноармейского переселения на 1932 г. в количестве 20 тыс. семей, из них в Дальне-Восточный край – 18 тыс. и в Восточно-Сибирский край - 2 тыс. [39, с. 181]. 16 марта постановлением ЦК ВКП (б) было утверждено формирование Особого Колхозного Корпуса на территории ОКДВА общей численностью до 60 тыс. человек с целью «усиления советских дальневосточных рубежей, распашки богатых целинных земель, гарантировать поставки как для населения Дальнего Востока, так и для армии, существенно сократить ввоз зерна и жиров из Сибири на Дальний Восток и тем самым развивать экономику ДВК»[23, с. 83-84].
В январе 1933 г. было принято решение о формировании на территории ОКДВА 1-й Колхозной дивизии, в течение года была сформирована ещё одна дивизия и тогда же, с 1 января 1933 г. были введены особые льготы для жителей Дальнего Востока: 1) Колхозы и колхозники были освобождены на десять лет от поставок хлеба и риса государству (кстати, семенной рис на сумму в 50 тыс. рублей валютой постановлением Политбюро от 16 марта того же года решили закупить не где-нибудь, а в Японии[4, с. 101]), а крестьяне-единоличники получили освобождение на пять лет; 2) Закупочные цены на рыбу, получаемую от рыболовецких колхозов, были повышены на 20%, а зарплата – на 10-30%[40, с. 334]. Как полагает Вада Х., смысл данных мер заключался в необходимости привлечь в Дальневосточный регион переселенцев из европейской России на смену сократившемуся потоку миграции из-за рубежа[40, с. 335].
Особое внимание при изучении военного строительства на Дальнем Востоке, с точки зрения Тэраямы К., следует уделить вопросам обеспечения военно-гражданских строительных объектов контингентом рабочих, одновременно определяя в качестве важного шага по укреплению дальневосточных границ планирование новых железнодорожных магистралей [35, с. 158]. Как разрешались такие вопросы в первой половине 1930-х гг. видно из письма[41, л. 101] (датированного 31-м августа 1933 г.) помощника К.Е. Ворошилова М. Антонова своему шефу, в котором он обращает внимание наркомвоенмора на некую инициативу, которая до какого-то момента не была согласована с главой военного ведомства, но уже к концу месяца (28 августа) появился итоговый документ «об организации на Дальнем Востоке строительных частей из военнообязанных по типу железнодорожного корпуса». Численность новых подразделений определялась «в 30 тысяч человек, из которых 10-15 тысяч должны быть использованы на стройках НКВМора и 15-20 тысяч – на стройках НКТПрома»[4, с. 108].
Говоря о строительстве новых железнодорожных магистралей, следует иметь в виду, что после оккупации японскими войсками Маньчжурии, под их полным контролем оказалась КВЖД. Для связи с Дальним Востоком оставалась одноколейная Амурская железная дорога с пропускной способностью не более 10-12 пар поездов в сутки, да и эта дорога шла вдоль границы, подходя к ней на некоторых участках на расстояние до 20 километров[42, с. 213]. Для решения вопроса было решено построить железную дорогу (магистраль) получившую название Байкало-Амурской от Забайкалья до Приморья на значительном расстоянии от границы. В подписанном 27 октября 1932 г. постановлении СНК СССР №1650/340с «О строительстве Байкало-Амурской магистрали» было указано: «Возложить на ОГПУ строительство Байкало-Амурской железной дороги с использованием для этого строительства заключённых исправительно-трудовых лагерей ОГПУ»[42, с. 214].
Рассматривая советскую железнодорожную политику на Дальнем Востоке накануне и после Маньчжурского инцидента, Тэраяма К. пришёл к выводу, что военная угроза со стороны Японии имела определённое влияние на внутриполитическое решение по военизации транспорта на Дальнем Востоке страны, причём эта чрезвычайная политика, принятая в конце 1932 г., распространилась затем и на всю страну[43, с. 39]. Японский исследователь отмечает, что комплекс мероприятий, получивший название «военизация транспорта», проводился в Дальневосточном регионе силами делегации из Москвы, под руководством Я.Б. Гамарника. Данной комиссии в начале декабря 1932 г. постановлением Политбюро было поручено «выработать на основе обмена мнений проект конкретных мероприятий по всем вопросам, касающимся улучшения работы железных дорог Дальнего Востока»[43, с. 37-38].
***
Маньчжурский кризис представлял собой сложное явление, оказавшее значительное влияние на механизмы принятия решений в области внутренней и внешней политики СССР на Дальнем Востоке в период с 1931 по 1933 гг. Политическая линия советских лидеров в отношении маньчжурского кризиса формировалась постепенно. Можно выделить несколько этапов этого процесса.
В ноябре-декабре 1931 г. руководство СССР (и в первую очередь, И.В. Сталин) начинает постепенно осознавать опасность, которую таит в себе дальнейшее продвижение Японии на территории северо-восточного Китая. Вследствие этого советское руководство намечает программу оборонительных мероприятий на Дальнем Востоке. Стремясь выиграть время для необходимых мобилизационных усилий, советское правительство предлагает Японии заключить пакт о ненападении.
В декабре 1931 – марте 1932 гг. вносятся коррективы в пятилетний план в связи с вновь возникшими повышенными потребностями военного бюджета страны и началом интенсивного военного строительства в ДВК. В Японии происходит смена кабинета министров, что способствует расширению японского присутствия в Китае.
Март-май 1932 г. был отмечен нарастанием напряжённости между двумя странами из-за «дела Базанова», арестов на КВЖД в апреле и смены японского правительства в мае, когда в состав нового кабинета входят радикальные сторонники противостояния с СССР, например генерал Араки Садао.
Период с апреля-мая и до декабря 1932 г. был одним из наиболее сложных в истории отношений между СССР и Японией в том числе из-за постоянных провокаций на границах советского Дальнего Востока, усугублённых отказом Японии в декабре 1932 г. подписать пакт о ненападении с СССР
Июнь-сентябрь 1933 г. – первый этап официальных переговоров о продаже КВЖД закончился не просто безрезультатно, а привёл к крупнейшему кризису между Советским Союзом и Японией в результате незаконного ареста маньчжурскими властями ответственных работников железной дороги. На этом фоне в конце сентября – начале октября 1933 г. по распоряжению И.В. Сталина разворачивается масштабная антияпонская пропагандистская кампания в советской прессе.
Следует отметить, что все принципиальные решения по вопросам внешней и внутренней политики принимались с согласия И.В. Сталина. Вместе с тем в руководстве СССР наблюдались определенные разногласия по поводу курса в отношении Японии и действий на Дальнем Востоке. Характерным примером является несовпадение позиций партийно-политического (И.В. Сталина и Л.М. Кагановича) с одной стороны и дипломатического (М.М. Литвинова) руководства, с другой, относительно первоначальной реакции на маньчжурский инцидент в сентябре 1931 г. Наблюдалось несовпадение мнений военного (Блюхер и Ворошилов) и политического (Каганович, Сталин) руководства относительно конкретных военных действий.
Изменение отношения к кризису сопровождалось проведением определённых мероприятий, главным образом, военного характера. Развитие военной промышленности, строительство оборонительных сооружений, налаживание транспортной инфраструктуры в условиях крайне скудных исходных материальных возможностей советского Дальнего Востока потребовало огромных усилий, мобилизации людских ресурсов (в том числе и труда заключённых ИТЛ) и финансовых затрат. Руководство СССР осознало необходимость укрепления обороноспособности ДВК не только на суше, но и на море, приняв решение о создании Амурской флотилии и Морских сил Дальнего Востока (с 1935 г. - Тихоокеанского флота).
Важной составной частью мобилизации советского Дальнего Востока была новая волна коллективизации, сопровождавшаяся «раскулачиванием». Спецификой коллективизации на Дальнем Востоке было создание Особого колхозного корпуса как специализированного воинского подразделения, призванного одновременно решать военные и хозяйственные задачи.
Источникиилитература
1. Молодяков В.Э. От вражды к партнёрству: Сиратори Тосио и внешняя политика Японии в отношении СССР. 1930-1941 гг. // Новый мир истории России. Форум японских и российских следователей. К 60-летию профессора Вада Харуки. / Под ред. Бордюгова Г., Исии Н., Томита Т. М.: АИРО-XX, 2001. С. 521-544.
2. Сталин и Каганович: Переписка. 1931 - 1936 гг. / Сост.: Хлевнюк О.В., Дэвис Р.У., Кошелева Л.П. и др. М.: РОССПЭН, 2001. 798 с.
3. Сафронов В.П. СССР, США и японская агрессия на Дальнем Востоке и Тихом океане: 1931-1945 гг. М.: ИРИ РАН, 2001. 452 с.
4. ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917-1941 гг. / Сост. Адибеков Г.М., Адибекова Ж.Г., Вада Х. и др. М.: РОССПЭН, 2001. 808 с.
5. Чубаров В.В. Военные конфликты в Китае и позиция СССР (1927-1933 гг.). // Советская внешняя политика 1917-1945 гг. Поиски новых подходов. М.: Международные отношения, 1992. С. 119-126.
6. Дацышен В.Г. Консульства Маньчжоу-го в России. Из истории советско-японско-китайских отношений в 1931-1945 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2013, № 5. С. 135-143.
7. Алексеев М. «Ваш Рамзай». Рихард Зорге и советская военная разведка в Китае. 1930-1933 гг. М.: Кучково поле, 2010. 800 с.
8. Трояновский О.А. Через годы и расстояния: История одной семьи. М.: Вагриус, 1997. 384 с.
9. На приёме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924-1953 гг.). Справочник / Науч. ред. А.А. Чернобаев. М.: Новый хронограф, 2008. 784 с.
10. Кутаков Л.Н. История советско-японских дипломатических отношений. М.: Институт международных отношений (ИМО), 1962. 560 с.
11. Советское руководство. Переписка. 1928-1941 гг. / Сост. А.В. Ква-шонкин, Л.П. Кошелева, ЛА. Роговая, О.В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 1999. 719 с.
12. Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980-е гг.). М.: ИРИ РАН, 2006. 704 с.
13. Документы внешней политики СССР. Т. 15 (1932 г.). М.: Издательство политической литературы, 1969. 859 с.
14. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 127. Д. 359.
15. Савин А.С. Японский милитаризм в период второй мировой войны. М.: Наука, 1979. 240 с.
16. Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии. / Пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 576 с.
17. Сталинское Политбюро в 30-е гг. Сб. док. / Сост. О.В. Хлевнюк. А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М.: АИРО-XX, 1995. 340 с.
18. Ложкина А.С. «…Два огромных зуба, торчащих изо рта»: формирование образа Японии в советской периодической печати. // Родина. 2010, № 9. С. 10-12.
19. Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические аспекты истории (первая половина ХХ в.). М.: Русская панорама, 2005. 430 с.
20. Молодяков В.Э. Почему Сталин продал КВЖД: механизм решения. // Япония. Ежегодник. 2009, № 38. С. 294-310.
21. РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 100.
22. Кен О.Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х – середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. 512 с.
23. Haslam J. Soviet foreign policy 1930-1933: The impact of the depression. Lоndon, 1983. 172 р.
24. РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 103.
25. Самуэльсон Л. Красный колосс: становление военно-промышленного комплекса СССР. 1921-1941 гг. М.: АИРО-ХХ, 2001. 296 с.
26. Davies R. W. Soviet Military Expenditure and the Armaments Industry 1929–1933: A Reconsideration // Euro-Asia Studies. Vol. 45. 1993, № 4. рp. 577-608.
27. Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М.: Вече, 2010. 464 с.
28. Минаков С.В. Военная элита 20-30-х годов XX века. М.: Русское слово, 2004. 504 с.
29. РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 38.
30. Минц М.М. Представления советского военно-политического руководства о составе вероятных противников СССР в будущей войне (конец 1920-х – начала 1940-х гг.). // Военно-исторический архив. 2012, № 8. С. 178-186.
31. РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 158.
32. Мильбах В.С. Политические репрессии командно-начальствующего состава, 1937-1938 гг. Тихоокеанский флот. СПб.: Издательство С-Петербургского университета, 2013. 300 с.
33. Мурсалов А.В. Развитие Амурской флотилии (1930-1941 гг.) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009, № 89. С. 105-107.
34. Гуринов С.Л. Деятельность морских сил Дальнего Востока (1932-1935 гг.) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009, № 114. С. 42-45.
35. Тэраяма К. Ответ на угрозу: советский Дальний Восток в начале 1930-х гг. // ЭКО (Экономика и организация промышленного производства. Всероссийский экономический журнал). 1997, № 8. С. 155-160.
36. Становление оборонно-промышленного комплекса СССР(1927 - 1937). Т. 3: Часть 1 (1927 - 1932): Сборник документов / Под ред. А.А. Кольтюкова; Сост. Т.В. Сорокина и др. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2008. 912 с.
37. Соколов А.К. От военпрома к ВПК: советская военная промышленность 1917-июнь 1941 гг. М.: Новый хронограф, 2012. 527 с.
38. Тархова Н.С. Красная Армия и сталинская коллективизация. 1928-1933 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 375 c.
39. Тэраяма К. Маньчжурский инцидент и СССР. // Acta Slavica Iaponica. T. 14. 1996. С. 179-198.
40. Вада Х. Россия как проблема мировой истории. Избранные труды. М.: АИРО-ХХ, 1999. 399 с.
41. РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 95.
42. Сталинские стройки ГУЛАГа, 1930-1953. / Сост.: А. И. Кокурин, Ю. Н. Моруков. М.: Материк, 2005. 568 с.
43. Тэраяма К. Военизация (милитаризация) железных дорог на Дальнем Востоке СССР (1931-1934 гг.). // Гуманитарные науки в Сибири. 1999, № 2. С. 35-39.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»