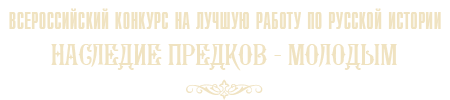Рудашевский Е.В.
Розены – одна из наиболее известных фамилий Германии. Многое можно рассказать про людей, принадлежавших к этому роду. Пожалуй, сегодня наиболее памятной остаётся история Прасковьи Розен – представительницы 17-го колена младшей русскоязычной ветви Розенов (в наши дни живут представители 23-го колена). Известна она тем, что была баронессой, сменившей дорогие покои на узкую келейку; известна неожиданными предпринимательскими способностями; и не только этим.
Розены славились приветливостью, а главное – набожностью, которую они не боялись проявлять в частых пожертвованиях. «В доме их убогий получал милостыню, сирый – заступление, странный – пристанище. Ни высокое общественное положение, ни отличия, которыми удостаивала их Царственная Августейшая Семья, – ничто не препятствовало им давать у себя в доме несчастному и больному помощь и утешение»[1].
Прасковья (Параксева, родившаяся в Москве 15 ноября 1825 года) была младшей из дочерей Елизаветы Дмитриевны и Григория Владимировича; так уж получилось, жила она одиноко, без общения со сверстниками; с юных лет была задумчивой, молчаливой. Лучшей утехой ей стало чтение, а книги чаще попадались религиозные. При этом энергичность в девочке была большой – любила она бегать, прыгать, баловаться.
У Розенов часто бывали гости. Среди них можно было найти знать всякого рода, но чаще прочих в дом приходили люди, занятые религиозной деятельностью. Так, маленькая Прасковья нередко видела экзархов Грузии, митрополита Иону, архиепископов Евгения, Моисея, Антония, даже – митрополита Филарета Московского.
В начале 1830-х годов семья Розенов жила в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. В воспоминаниях, написанных уже в далёкой старости, Прасковья Григорьевна укажет: «К матери моей много приезжал император Николай Павлович, часто присылал ей фрукты и цветы из оранжереи того дворца; помню, как не раз монарх брал меня на руки, сажал на плечо, ласкал, играл со мной. Мать моя возила нас во дворец играть с великими княжнами»[2].
С 1830 по 1838 годы Прасковья жила под закавказским небосклоном, так как отец её был назначен главнокомандующим Кавказским краем. Земли эти были особенно дикими, что предопределило отъединённость семьи. Лишённые привычного общества, Розены тем не менее не пренебрегали богатством, роскошью, порой – помпезностью (жили они в просторном дворце)
Из окон Прасковьи «видны были Эльбрус и Казбек, леденящие вершины которых резко отделялись от сине-голубого, всегда почти безоблачного неба. Вокруг дворца была устроена великолепная терраса, украшенная цветниками и виноградными беседками»[3].
Прасковья увлекалась науками, литературой, но больше всякого увлечения ей нужна была религия, в чём родители её только поощряли. Учителя хвалили девочку за усердие. Ректор Тифлисской семинарии писал Прасковье Розен: «Милостивая государыня, имея счастие скудною рукою сеятеля полагать в юное сердце ваше спасительное семя слова Божия, я всегда утешался пламенным вашим желанием принять и сохранить оное в сердце своём к произращению плодов благих».
По возращению в Москву Розены приобрели усадьбу Давыдова (за 40 тысяч рублей ассигнациями[4]), но барон Григорий Владимирович не успел насладиться пречистенскими хоромами. Он был разбит параличом и теперь лежал в Петровском дворце – лишённый всякого движения в левой ноге и левой руке. Прасковья ухаживала за отцом и была в этом большой помощницей своим старшим сёстрам. Уходила она только для еды, сна и прочих неизбежных надобностей. Любовью и заботой она старалась облегчить страдания отца.
Григорий Владимирович скончался в 1841 году, 6 августа. Следить и ухаживать теперь пришлось за его женой, Елизаветой Дмитриевной, давно предчувствовавшей разлуку с мужем, но так и не успевшей к ней приготовиться.
После смерти супруга Елизавета Розен вместе с детьми переехала в пречистенский дом. Там Прасковья Григорьевна продолжила обучение. Она проявила особый талант в живописи – посвятила ей все силы, а всякую свободную минуту была с матерью и вскоре, несмотря на юность, стала не только первой её утешительницей, но также и первой помощницей по хозяйству, управлению особняком и загородными имениями.
У Прасковьи было три сестры. Аглаида – девушка необыкновенная, с религиозными мыслями, которые способствовали её миролюбию и замкнутости. В эти годы она будет почти безвыездно жить в особняке. Аглаида казалась здесь монахиней, отчего злоязычники стали поговаривать, будто Розены сделали из усадьбы настоящий монастырь. Другая сестра Прасковьи – Софья – в конце 1842 года вышла замуж за Владимира Аладьина (именно Софья Григорьевна впоследствии станет единственной владелицей Давыдовского особняка). Наконец, третья сестра Прасковьи – Лидия – ещё на Кавказе вышла замуж за князя Дадиана (впоследствии разжалованного, лишённого княжеских и дворянских достоинств, сосланного в Вятку; эта история привела к первой болезни Григория Владимировича). Все сёстры были фрейлинами при дворе Александры Фёдоровны.
Прасковья в отличие от большинства сверстниц редко выезжала в свет, не стремилась к блеску, была молчалива. Уже в двадцать три года она объявила матери, что не чувствует в себе желания к семейной жизни, что себя и свои дарования хотела бы употребить для общечеловеческого блага, единственной дорогой к чему на тот момент ей казалась деятельность религиозная. Прасковья занялась иконописанием (учителем её в живописи был Иван Айвазовский). Елизавета Дмитриевна не противилась такому выбору. Тогда же баронесса взяла дочерей в Киев – поклониться могиле недавно умершего архиепископа Антония; там Розены сблизились с митрополитом Филаретом; очарованный Аглаидой и Прасковьей, он благословил их на обет служения Богу.
Елизавета Дмитриевна, надеясь угодить незамужней Прасковье, устраивала в пречистенском особняке большие рауты, балы, на которых бывало всё аристократическое общество города.
Вместо того чтобы готовиться к браку, Прасковья задумалась о том, чтобы уйти в монастырь – пусть бы вопреки материнскому желанию. Митрополит отговорил её от такой затеи, предложив дождаться добровольного благословения от Елизаветы Дмитриевны.
Прасковья лишила себя встреч и разговоров с друзьями, позволив себе общаться только с некоторыми из родственников, а в первую очередь – с сёстрами и матерью.
Нередко случалось, что в особняке готовилась тайная посылка в московские тюрьмы. Её собирали под руководством самой Елизаветы Дмитриевны. Она указывала, что и в каком объёме класть, чем упаковывать для лучшей сохранности. Посылки эти относила Прасковья Григорьевна. Меж собой они нарекли такое дело «тайной милостыней», которое, однако, не было тайной для арестантов, милостыню эту получавших, они хорошо знали не только имя благодетелей, но также их адрес: Пречистенская часть, дом 201. Туда, к усадьбе, они мыслями отсылали свою благодарность.
Любимым занятием Прасковьи стала иконопись. За три года ей удалось расписать несколько иконостасов, каждый из которых был отправлен даром в бедные церкви и монастыри.
Такая жизнь могла бы продлиться ещё много лет – до самой смерти Елизаветы Дмитриевны (чего и хотел митрополит), но одному событию суждено было изменить жизнь Давыдовского особняка и его обитателей. Однажды, во время прогулки лошади, взбесившиеся от неожиданного испуга, так погнали экипаж Прасковьи Григорьевны, что остановить его не удавалось ни кучеру, ни машущим с обочины людям. Все ждали трагедии, подобной тем, которые нередко случались в конной Москве. В минуту опасности многие торопятся с обещаниями: кто – Богу, кто – себе лично. В этих обещаниях они находят силу и уверенность для нужного, решающего броска, а затем, когда опасность угасла, отказываются от них – они ещё дымят недавним чувством, но, как пистолет одного выстрела, оказываются ненужными (следует припасти их до будущих тревог). Прасковья Григорьевна, не в пример многим, осталась верна своим обещаниям. Она поклялась, что при благополучном окончании безумной гонки расскажет матери о желании уйти в монастырь и на желании этом будет настаивать всей силою. Лошади счастливым совпадением были остановлены – им наперерез выкатилась телега с тяжёлой кладью. С удил стекала пена. Слышалось нервное фырчание, голоса людей, но громче прочего для Прасковьи Розен отдавалось биение собственного сердца. Она и не подумала отказывать от обещанного. Вернувшись в особняк, рассказала обо всём матери.
Елизавета Дмитриевна в слезах благословила дочь. Было спешно составлено «Прошение Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Павловичу на поступление в число сестёр Алексеевскаго монастыря, с надеждою на пострижение в монашество».
Прощание было слёзным, шумным. В дом на Пречистенке съехались многие из рода Розенов. Старенькую баронессу Елизавету Дмитриевну не могло утешить даже то, что дочь её остаётся в Москве, а значит, будет, по возможности, ей прислуживать.
«При поступлении в монастырь Прасковья Григорьевна с собой ничего не взяла, кроме иконы [святителя Митрофания, подаренную ей матерью], необходимаго белья, постели и мебели, необходимой для монашеской одиночной кельи. Все свои ценные вещи она оставила дома, а бриллиантовый фрейлинский вензель, переделав на звезду, возложила на плечо чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери… Денег при ней совсем не было; мать ея – с целью, не возвратится ли она к ней обратно – не дала ей даже одного рубля, так что с перваго дня ея вступления в обитель ей пришлось принять пособие от соучаствующих ей лиц»[5].
Приняв чётки и благословение от Филарета, Прасковья Григорьевна официально была определена к монашескому труду (но без пострижения) – ухаживать за больными и руководить возведением новых домов. Покупка строительных материалов и уплата рабочим за труд также вошли в её обязанности. Эта деталь здесь указана неспроста. Она могла бы почудиться слишком ничтожной, чтобы останавливать на ней внимание читателя и чтобы вообще упоминать её в книге; однако именно эта деталь стала первым шагом Прасковьи Розен к одному из самых известных дел российской судебной практики XIX века. Но – обо всём по порядку.
Прасковья Розен, как и прежде на Пречистенке, принимала больных; теперь деятельность эту она могла развернуть широко: впуская к себе тех, кто принёс раны смрадные, гнойные, да и тех, кто сам по себе был лишен приятных ароматов. Лечение им давалось хорошее и бесплатное, о чём вскоре узнали все местные бродяги и нищие. Здесь же для них готовилась пища; разве что ночевать не разрешали, так как келья Прасковьи Григорьевны была небольшая, скромная.
Так продолжалось более шести лет.
Для оплаты благотворительности Прасковья Григорьевна поначалу использовала деньги, полученные от настоятельницы монастыря, потом – полученные от родственников (в первую очередь, от матери Елизаветы Дмитриевны). Но большую часть благотворительных сумм составил личный заработок Прасковьи Григорьевны от продажи икон. Она, чувствуя всё возрастающее доверие от нищенствующего люда, соглашалась писать по заказу целые иконостасы. При этом не оставляла хозяйственных забот по монастырю; твёрдо выстраивала нужным порядком все отчёты, отслеживала заполнение шнуровых книг. Нередко случалось, что, поднявшись для работы в три утра, она (в зимнюю пору) «надевала высокие сапоги, чёрную барашковую, вроде тулупа, шубу и сама принимала [строительные] материалы – стояла на морозе, наблюдала за подводчиками, пока не сложат кирпич, лес или камень; известь принималась ею у окна келии, так как под ним были нарочно устроены для того весы.
Чтобы соблюсти для монастыря выгоду и иметь средства провести по монастырю дороги, <…> сделать тротуары, насадить монастырь деревьями и разбить сады, – она от своего усердия бесплатно кормила, вместе с нищими, два лета сряду, артель в 40 человек»[6].
Прасковья Григорьевна организовала планировку нового кладбища при монастыре. Сама ежедневно поднималась по строительным лесам – работала вместе с подрядчиками; стояла под куполом новой часовни – писала задуманные и условленные с настоятельницей сцены из Библии.
До громких печальных дней Прасковье Григорьевне было ещё далеко. Пока что она неустанно показывала способности своего ума, за что встречала благодарность и похвалу. Самоотверженность её видна не только в заботах, но и в том, как при пожаре 1856 года в Алексеевском монастыре бросилась она в огонь, чтобы защитить от смерти игуменью – старушку Иларию. Подобных историй сохранилось множество; их бы хватило, чтоб составить каркас романа о московской жизни XIX века.
Быт Прасковьи Григорьевны складывался просто – несмотря на привычку к роскоши петербургских, кавказского и пречистенского дворцов. Стены в её кельи были деревянные, неоштукатуренные. Одежда и пища её оставались самыми дешёвыми. Только мебель в комнатах у неё стояла хорошая, так как была «ей подарена матерью из мебели покойного отца ея; если б не эта причина, то [они], конечно, не могли бы встретить у нея никакого комфорта; но убеждение ея близких и собственное желание – не выказывать себя перед людьми святошею, побуждали её скрывать то стремление к простоте, которое во всём её отличало»[7].
Баронесса Елизавета Розен часто приезжала в Алексеевский монастырь – встретиться с дочерью (путь был до того близким, что его можно назвать прогулкой). Сама Прасковья Григорьевна раз в два месяца обязательно приходила в пречистенский дом. Роскошь семейных комнат, зал, анфилад теперь её не впечатляли, не смотрелись для неё искушением от той жизни, которую она для себя выбрала.
В 1853 года Аглаида, сестра Прасковьи Григорьевны, приехала в Алексеевский монастырь, где по слабому здоровью слегла в тяжёлой болезни. На полгода Елизавета Дмитриевна осталась в своих хоромах одна. Единственной утехой ей были посещения третьей дочери – Софьи. Болезнь Аглаиды, однако, не окончилась смертью. Девушка, едва оправившись от многомесячной слабости, упросила Прасковью Григорьевну помочь ей в принятии монашеского пострига. Аглаида стала монахиней, но это было сохранено тайной для всех родственников; жила она, как прежде, подле матери. Так, сразу две жительницы Давыдовского особняка оказались во власти церкви.
25 сентября 1854 года Прасковья Григорьевна по благословению митрополита Филарета получила имя, под которым она и останется в истории судебных дел России – её нарекли рясофорной (т. е. без пострижения имеющей право носить рясу) послушницей Митрофанией.
Прасковья Григорьевна предпринимала всё возможное для обустройства монастыря, для его обогащения, но в этом стремлении она неуклонно сохраняла условленные с юности правила исключительной нравственности – следуя им, она порой отказывалась от значимых пожертвований в пять-десять тысяч рублей и единственной причиной тому указывала, что деньги эти были приобретены мошенничеством. Прасковья Григорьевна отказывалась от покровительства тех, кто, по её убеждению или знанию, разбогател нечестным путём. Так у Митрофании появлялись первые враги; пользуясь богатством и властью, они торопились очернить её имя (при этом сохраняя лицо своё в известном благочестии – ведь деньги, не принятые в монастырь Митрофании, без проволочек поступали в другие монастыри, под другой надзор).
Один из главных врагов Прасковьи Григорьевны, как это ни странно, вышел из стен пречистенского дома. К тому времени Елизавета Дмитриевна была слишком стара, чтобы управиться с обширным имением, следить за документами, отчётами, заниматься доходностью от сдаваемых в наём комнат, а дочь её, Аглаида Григорьевна (которая должна была бы сменить мать в этих заботах), окончательно ослабла из-за повторяющихся приступов болезни. Управлять имением было некому. Пришлось звать человека со стороны. Им оказался некий Д. Л. А., который почудился старенькой баронессе человеком почтенным, верным и способным лишить её всех забот. Он поначалу оправдал эти ожидания, и Елизавета Дмитриевна передала ему дела, по которым велись её расходы и доходы. Вскоре она узнала, что Д. Л., «воспользовавшись неограниченным доверием старушки, мошенническим образом утаил ему доверенные бумаги на получение процентов; получив по ним капитал в 100 000 рублей, он купил на своё имя, тайно от баронессы, дом в Москве, на Ордынке. <…> Начал, было, обирать и крестьян богатого оброчного имения Владимирской губернии, доставшегося баронессе от бабки ея графини Е. В. Зубовой <…> стал отпускать на волю богатых крестьян и рубить леса»[8].
Митрофания вынуждена была лично заняться имениями матери. Она отстранила Д. Л. А. от всех дел, но, опасаясь огласки (не желая беспокоить прочих родственников), не стала искать защиты в суде, не стала также испрашивать у мошенника наворованных денег. Д. Л., однако, не утешился награбленным, но в отместку начал злословить на Митрофанию – рассказывать, будто именно она причастна к неожиданному расстройству дел пречистенской усадьбы. Слова эти звучали громко и уверенно до тех пор, пока Прасковье Григорьевне не удалось выправить дела до прежнего порядка.
К 1857 году Митрофания получила свою часть от состояния Розенов. Всё имущество (земли, дачи, драгоценности) она сразу же продала, сформировав для будущей деятельности хороший капитал. Другие средства на благотворительность она находила у великосветских знакомых (оставшихся от баронского прошлого). Среди них наибольшей щедростью обозначились княгиня Е. В. Салтыкова и Т. Б. Потёмкина.
Ещё в 1856 году Митрофания, утомившись от многолетней, непрестанной работы, была близка к тому, чтобы получить чахотку. «Друг семейства баронессы Розен, доктор Овер, лечивший её, сказал матери, что для спасения дочери следует удалить её из Москвы и предпринять лечение, при постоянном пребывании в сосновом бору и при употреблении парнаго молока с минеральными водами»[9]. Для отдыха Прасковья Григорьевна выбрала Серпуховский Владычный монастырь. Она впервые надолго отдалилась от матери, от родного дома на Пречистенке, от полюбившейся ей кельи.
Митрофания пока что отказывалась принять пострижение в монашество – понимая, что после этого она не сможет действовать по доверенности, а значит, не сможет помогать матери в делах по имениям. Кроме того, она предвидела, что ей, при учёте прошлых заслуг, могут назначить высокую монастырскую должность, по которой она вынуждена будет отдалиться от монастырских подруг.
Митрофания справилась с недугом. Вернулась в Москву, в Алексеевский монастырь, но уже 14 ноября 1857 года вновь выехала в Серпуховский Владычный монастырь – и жила там много лет. Она отказалась от суеты столичного города для тихого бора, окружавшего её новую обитель; отреклась от прежних своих дел и теперь была занята исключительно молитвами и лечением больных. В 1859 году Прасковья Розен продала последнее из принадлежавших ей наследных имений и тем избавилась от забот о нём.
Несмотря на отказ от мирской жизни, Митрофания продолжала навещать престарелую Елизавету Дмитриевну в её Давыдовском особняке. К тому времени по указам баронессы все свободные земли усадьбы были застроены одно-, двухэтажными корпусами. К главному дому и другим жилым зданиям было пристроено по несколько новых деревянных крылец, появились новые комнаты – усадьба была окончательно отдана под доходные нужды. Баронесса понимала, что с такого владения в новую эпоху можно и нужно хорошо зарабатывать. Не то чтобы она нуждалась в деньгах, но лишние сотни рублей карман не оттянут. В те же годы помещения по Барыковскому переулку были отданы под хлебную лавку, под слесарное, седельное и портновское заведения. В правом флигеле по Сеченовскому переулку расположился один из первых в Москве салонов фотографии – «Художника Императорской Академии фотографа И. Я. Красницкого».
Наконец, 12 июня 1861 года Митрофания была пострижена в монашество. Уже 2 августа она получила игуменский посох – стала во Владычнем монастыре настоятельницей. Мать её, Елизавета Дмитриевна, присутствовала при обряде, плакала громко и долго – на то были её набожность и старость.
В начале 1862 года баронесса Елизавета Розен заболела; в болезни этой все видели для неё последнее испытание перед смертью. Тогда дом на Пречистенке, как никогда прежде, казался обителью церковного люда. Сюда сходились и те, кому старушка была в помощь по делам её благотворительности, и те, кто знавал её в годы красоты, замужества. В комнате с ней сидела Митрофания (отлучившаяся от управления монастырём). Здесь же бывал митрополит Филарет.
9 февраля баронесса умерла.
На следующий день после похорон, как и завещала Елизавета Дмитриевна, дома и земли пречистенской усадьбы были отданы под большую столовую для нищих. На дело это было выделено две тысячи рублей. Шум, подобный случившемуся во время тризны, бывал здесь только при жизни Гаврилы Бибикова – во время его знаменитых музыкальных вечеров. В этот раз шумели здесь не крепостные оркестранты, но ватага оборванцев, за куском хлеба не успевавших даже чётко рассказать о своём почтении к усопшей.
Теперь Митрофания могла все силы посвятить заботам о монастыре. Прочие родственники были обеспечены и хорошим наследством от семейства Розен, и удачной партией в браке – не было нужды заботиться о них.
Уверенная, что монахини, гуляющие по улицам Москвы и собирающие подаяние (для очищения души жертвующих), поведением своим дают повод плохо говорить о монастыре, Митрофания подобную деятельность прекратила. Она верила, что монастырь может и должен существовать только на трудом заработанные деньги. Как бы сказали сейчас – нужно было становиться на самоокупаемость, не требующую ни помощи, ни стимулирования.
По приказу Митрофании недалеко от города Серпухова была обустроена книжная лавка. Торговля церковными словами оказалась успешной и вскоре была расширена. Принадлежавшие монастырю реки игуменья предоставила местным рыбакам на условиях половинного дохода, после чего не только обеспечила монастырскую трапезу, но также подняла «рыбную доходную статью» от 30 рублей в год до 600.
Митрофания заметила, что на заброшенных из-за каменистости монастырских землях в действительности лежит ценный строительный материал – бут, цокольный камень, плиты подольского мрамора. Испросив у митрополита Филарета дозволения, игуменья обустроила добычу этих материалов – открыла каменоломню – не только для строительства монастырских сооружений, но и для продажи в город. Здесь годовой доход с 50 рублей поднялся до 1165.
Рядом с каменоломней Митрофания заодно построила известковый завод, руководить которым был приглашён француз Фуке. Несколько месяцев спустя здесь же был открыт кирпичный завод. Причём игуменье удавалось подобрать таких руководителей и рабочих, что производимый на монастырских заводах товар получался действительно хорошим. Строительными материалами от Митрофании заинтересовались представители Министерства путей сообщения. При кирпичном заводе изготовлялись также всевозможные печные материалы – даже лещадь (каменные плитки, бруски) и черепица.
Устроенные заводы не только принесли доход с продаж, но, кроме того, снизили расходы на собственное строительство. В Москве, на земле, принадлежавшей монастырю и прежде отданной под ветхий домишко, по приказу игуменьи из своих же материалов было возведено трёхэтажное подворье с флигелями. Прежний домишко ежегодно приносил 500 рублей; подворье теперь приносило не меньше 3000.
Одновременно с этим Митрофания приобрела для монастыря новые земли – да так, что крестьяне, с них выехавшие, остались довольны полученным взамен (деньгами, участками в других местах, порой даже – новыми домами, только в стороне). На землях этих игуменья организовала фруктовые и ягодные сады, пчёльник, парники. Для монахинь и послушниц были обустроены тополевая аллея, сквер и даже кладбище.
«Перед монастырём [была] выстроена каменная гостиница вместо старой деревянной, содержащая в себе 20 номеров, для приезжающих богомольцев, приносящая в год до 1000 рублей; устроена странноприимная для лиц мужскаго пола, выстроен конный двор, выстроены лавки, отдающиеся в найм серпуховским хлебным и мелочным торговцам… Все проезды монастырские были по вечерам освещаемы устроенными игумениею фонарями»[10].
Обеды в гостинице были платными, но вино подавалось при необходимости даром, так как Митрофания не хотела превратить гостиницу, стоявшую вблизи от монастыря, в трактир. Более того, местом этим, неожиданно расцветшим и привлекавшим теперь от 20 до 30 тысяч богомольцев в год, заинтересовались акцизные чиновники[11]; они предложили игуменье открыть здесь парочку питейных заведений – которые бы утешали если не богомольцев, то, по меньшей мере, рабочих, привлечённых на монастырские заводы. Митрофания, несмотря на возможные выгоды, отказалась и даже составила на этих чиновников жалобу.
Сам монастырь активно перестраивался. Возводились новые жилые корпуса, кельи, больничные палаты (в 1872 году здесь прошли лечение 2270 человек), аптеки. Митрофания заботилась не только о здоровье монахинь и крестьян, но также ратовала за их образование. Под её руководством были открыты новые школы. Иногда родители торопились забрать ребёнка от занятий раньше положенного возраста – чтобы те шли на серпуховские фабрики мотать бумагу. Узнав об этом, Митрофания стала сама выплачивать всю возможную детскую заработную плату родителям – с тем только, чтобы они позволили детям отучиться ещё несколько лет.
Словно бы памятуя о Даниле Кашине, жившем некогда в тех же стенах, что и сама Прасковья Григорьевна, игуменья тревожилась за чистоту голосов в клиросе (церковном хоре) – некоторых певчих она отправляла на стажировку в Санкт-Петербург, в музыкальные школы, устраивала им частные занятия с большими музыкантами.
При монастыре были открыты рисовальные и живописные классы, мастерская иконописи. В монастырь по такому началу приходили заказы на создание иконостасов; количество заказов с каждым годом увеличивалось. Некоторые из учениц Митрофании были отданы в академии, школы (опять же – столичные). Впоследствии они увеличили прибыль монастыря, выполняя заказы по росписи стен и куполов в храмах и церквях.
В монастыре были открыты переплётная мастерская и свечной завод (для обеспечения его необходимым объёмом воска здесь же монахини содержали более 100 ульев). Митрофания позаботилась и о расширении рукодельной отрасли монастырского быта – золотошвейного дела, портняжного, башмачного, прядильного, ткацкого и красильного.
«Не менее внимания было обращено ею и на улучшение сельскаго хозяйства; скотоводство монастырское расширилось; был приобретён игуменьей холмогорский и швейцарский скот. Овцеводство в обители также давало хорошие результаты – от романовских овец и мериносов получалась самая наилучшая шерсть для ткани»[12]. Занимались монахини и огородными, пахотными делами. Высаживали травы, собирали сено.
Игуменья, посовещавшись с теми, кому она могла доверить свои экономические вопросы, открыла при монастыре мыльный завод. Тогда же Митрофания начала первые судебные разбирательства – требуя для монастыря новых земель, настаивая на получении всего, завещанного в пользу монастыря имущества (законность чего оспаривали родственники наследодателей). Для этих дел приходилось выезжать в Москву, в Тулу, в Петербург и другие города. Не позволяя никому отнять у монастыря даже малой части земли, старую мельницу или утлую рощицу, Митрофания тем самым обозлила против себя многих состоятельных людей, владения которых располагались в спокойных, красивых подмосковных краях. Эти злопыхатели нашли отклик от людей, невзлюбивших Прасковью Григорьевну ещё в те годы, когда она занималась интересами Алексеевского монастыря и, конечно, матери – Елизаветы Розен.
Многих возмущало, что игуменья открыла сразу несколько постоялых дворов, построила заводы, улучшила пашни. В этом была зависть. Пошли сплетни, слухи, интриги. Митрофания узнала, что такое настоящая злобная клевета. Её обвиняли в дружбе с дьяволом (иначе нельзя было объяснить успех всех её начинаний), в измене собственному призванию, в небрежении православными идеями. Дурных толков становилось больше от раскольников, живших подле монастыря и Митрофанию считавших своим первейшим врагом (игуменья отвечала им тем же). Как ни странно, отзвуки этого противостояния слышны даже сегодня; один из современных православных авторов, не умея спрятать эмоции, пишет: «Сектанты-перекрещенцы не могли примириться с тем, как решительно в игуменство Митрофании была искоренена раскольничья их вседозволенность в обители и за её стенами. Свои злостные измышления они излагали в письмах Герцену, а тот уже звонил в своём «Колоколе» на всю Россию»[13]. Ещё больше врагов игуменья узнала после того, как по императорскому поручению она уехала осматривать общины и монастыри разных городов – составленные игуменьей отчёты были слишком правдивы для тех, кто хотел сокрыть огрехи своей деятельности.
Несмотря ни на что, игуменья не теряла уважения среди большинства знатных людей, которые в дополнение к личным доходам монастыря жертвовали ему в год десятки тысяч рублей.
Заботами Митрофании проводилась реставрация всех церковных зданий. Стены были отремонтированы, старые изображения подновлены, старые иконы изъяты из пыльных углов, промыты профессиональными реставраторами, выставлены на общее обозрение. «Кроме того, древний и новый монастырский архив [был] приведён в порядок, причём все древние акты и рукописи в свитках – разобраны и переписаны, через что и получилась возможность впервые составить историческое описание Серпуховскаго Владычняго монастыря в 1866 году, то есть после пятивековаго существования обители»[14].
К 1873 году в монастыре, прославившемся в округе своей деятельность и хорошими условиями быта, состояли уже 30 монахинь, 30 послушниц и более 400 сестёр. Судя по «Приходным книгам», до Митрофании за 40 лет монастырь получил 121 тысячу рублей, а за 12 лет при Митрофании – 423 тысячи (доход увеличился в 12 раз). При этом Митрофания запретила сёстрам ходить по городу, кружкой или книжкой собирая с горожан милостынь. Все полученные деньги, а также личные средства игуменья вкладывала в развитие монастыря – не оставляя ничего для скопления отдельного капитала.
Прасковья Григорьевна могла прославить себя, сохранить своё имя в списках самых заслуженных и достойных церковных имён XIX века, но «за всё своё бескорыстное самоотвержение и за свою широкую общественную деятельность она не осталась без награды: и этою наградою был для нея позор, бесславие и место на скамье подсудимых, по обвинению в невероятном деле, несообразном…»[15].
В феврале 1873 года прокурору Петербургского окружного суда Анатолию Фёдоровичу Кони была передана жалоба от купца Лебедева на Митрофанию, которая, по его словам, выпустила поддельный вексель на 10 тысяч рублей от имени самого Лебедева, с его фальшивой подписью. 20 марта игуменью арестовали. Это было только началом. Словно бы застоявшееся озеро – проломившее ветхую плотину благочестия – рванёт поток грязи, лжи. Обвинения будут озвучены от самых глупых до самых неожиданных. На суде станут говорить о том, что Прасковья Григорьевна для услаждения собственного быта, ради своих помощниц, готова была на вымогательство, на кражу, на подлог. Фёдор Никифорович Плевако (выступивший поверенным по делам Солодовникова и Медынцевой) вовсе назовёт её Тартюфом, игнорируя все рассказы о сдержанности и самоотречении Митрофании. Будет громко и чётко объявлено, что игуменья вела теневую торговлю, что она много лет занималась подделками векселей – умея перенести на бумагу точную копию тех подписей, которые имелись у неё в несомненном виде.
Заодно было устроено дело о подозрительных векселях Солодовникова, ходивших со странным удостоверением от игуменьи, о поддельных векселях Макарова. Заговорили о том, что под деньги, которые «должны будут получены в пожертвование», Митрофания брала заёмы. Затем было открыто дело о пропаже денег Медынцевой.
Анатолий Кони потом напишет в воспоминаниях: «… никто не двинул для неё пальцем, никто не замолвил за неё слово, не высказал сомнения в её преступности, не пожелал узнать об условиях и обстановке, в которых она содержится. От неё сразу, с чёрствой холодностью и поспешной верой в известие о её изобличённости, отреклись все сторонники и недавние покровители. Даже и те, кто давал ей приют в своих гордых хоромах и обращавший на себя общее внимание экипаж, сразу вычеркнули её из своей памяти, не пожелав узнать, доказано ли то, в чём она в начале следствия ещё только подозревалась»[16].
Главным обвинением от московской интеллигенции звучало то, что игуменья была слишком деятельна, что задуманные ею дела и преобразования были слишком новы для современных обстоятельств и потому – невыполнимы. Говорили, что она слишком торопилась вперёд, вынуждена была доверяться многим людям, в результате чего, действительно, не по своему желанию могла быть вовлечена в дела преступные (могла среди сотен нужных ей подписей, среди сотен безудержных дел упустить одну-другую подпись ложную, одно-другое дело противозаконное).
Примером того, что именно люди образованные думали об игуменье, могут быть слова Забелиной, написанные к стенографическому отчёту о деле Прасковьи Григорьевны: «Что такое игуменья Митрофания? Это человек замысла: вот ея достоинство и в этом ея несчастье. В женском теле – мужская энергия, с пылким, смелым воображением, обгоняющим практические расчёты ума; при недостатке средств – обширные планы, для осуществления которых требовались бы сундуки разве государственнаго казначейства; современныя общественные идеи под монашеской рясой, даже, к сожалению, чересчур современныя. Прибавьте к этому высокое положение по рождению, возвышение в служебной иерархии и лёгкость влияния на административныя сферы в следствие доступа к высшим особам: вот вкратце все черты, из которых составился характер последовавшего преступления… К сожалению, не было руки, которая бы остановила её вовремя; не было ума и воли из тех, которые имели право на влияние, которые бы разъяснили ей скользкость пути, которые возбранили бы дальнейшие шаги при первом поползновении на дорогу, несродную монашескому призванию, монашескому смирению и отречению»[17].
Едва окончился процесс в Москве, Митрофания была выслана в Петербург – чтобы отвечать по заведённому против неё делу Смирновых (как выяснится позже, поводом для разбирательства был ложный донос корнета Д. Д. Толбузина). «По окончанию следствия по делу Смирновых <…> Митрофания поселилась, по собственному желанию, до окончательного решения своей участи, близ монастыря Киновии, в местности отдалённой от центральных частей города и своею безлюдностью и уединением вполне отвечающей тому внутреннему душевному состоянию, в котором находилась в то время невинно осужденная игуменья»[18].
Дело получилось необычайно громким. Его обсуждали во всех домах. Оно стало главной темой для толков, пересудов. О нём писали – не только газетные статьи, но также целые книги, в которых давался подробный разбор жизни, заслуг и преступлений Митрофании. Более того, на сюжет этого разбирательства Александр Николаевич Островский написал одну из своих комедий – «Волки и овцы», где волком, конечно же, была коварная игуменья, над которой тогда с таким удовольствием смеялись театралы.
Все былые враги, завистники Прасковьи Григорьевны объединись единой силой и подкупом, подлогом стремились к одному – усадить ненавистную женщину в тюрьму.
В состав присяжных заседателей московского окружного суда, которые должны были вынести решение по делу игуменьи, входили два раскольника… Они, конечно, помнили все гонения, которым Митрофания подвергала их единоверцев в Серпуховских лесах. Прочие присяжные в несколько дней по «неизвестным» причинам успели побывать в домах, где имя Прасковьи Розен считалось скверным…
Неволя. Тюрьма… Жестокое обращение тюремщиков. Боли в ногах. Молитвы на стёртых коленах. Безумный шёпот в полусне. Воспоминания, забытье. Утрата сил и частые вопросы – почему, как так могло случиться? А потом снова – молитвы, слёзы…
Митрофания хотела уединиться. Тело её ослабло, да и на силу рассудка едва ли можно было положиться после всех лишений. В здоровой деятельности религиозные представления объясняли причины совершаемого (избавляли от сомнений, которые ядом изжигают подобные порывы в других людях). Оставленная взаперти, не зная, как разрешить свои желания, свою энергию, Митрофания вся обратилась в религию; лишенная деятельного содержания, но оставленная в религиозной оболочке, она могла утерять здоровье ума, так как была теперь зациклена на пустозвонной, напрасной форме молитв (которая, впрочем, у других людей не всегда обретает содержание – даже при благих условиях).
Из заключительного слова присяжного поверенного Фёдор Плевако: «Господа судьи и присяжные заседатели. Пришло время свести счёты игуменьи Митрофании. <…> Пришло время решить: клевета врагов или темнота собственных поступков привели игуменью и весь этот штат на скамью подсудимых. <…> Неприглядная картина рисуется перед вашими глазами, когда мы вспомним всё, что проделывалось с этою женщиной [Медынцевой] и кем проделывалось. Игуменья – душа этого дела; тёмныя личности вроде тех, кого она привела с собой на скамью и тех, чьи имена так часто повторялись на суде <…> – ея друзья и сообщники сомнительных денежных сделок. Инокини – векселедержательницы и бланконадписательницы, и потом услужливыя ея свидетельницы на суде, и какия, к стыду своему, свидетельницы! Верь после этого внешности! Путник, идущий мимо высоких стен Владычнаго монастыря, ввереннаго нравственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идёт мимо дома Божьяго, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ея слуг не на молитву, а на тёмныя дела! Вместо храма – биржа, вместо молящагося люда – аферисты и скупщики поддельных документов, вместо молитвы – упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра – приготовление к лживым показаниям, вот что скрывалось за стенами. Стены монастырския в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у игуменьи Митрофании не то. Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру было не видно дел, которыя вы творите под покровом рясы и обители!»[19].
Митрофания была признана виновной по всем 270 пунктам обвинения: «На основании этого вердикта гг. присяжных заседателей, суд постановил: игуменью Серпуховскаго Владычняго монастыря, Митрофанию, <…> лишив всех лично и по состоянию ей присвоенных прав и преимуществ, сослать в Енисейскую губернию с запретом выезда в течение 3 лет из места ссылки и в течение 11 лет в другие губернии. Кроме того, суд удовлетворил просьбу гражданских истцов об уничтожении, посредством надписей, признанных подложными документов и об удовлетворении истицы Тицнер из имущества игуменьи Митрофании в сумме 76 тысяч по стоимости приобретённых госпожой Тицнер векселей Медынцевой»[20].
Впоследствии благодаря хлопотам сестры Софьи Григорьевны Аладьиной Сибирь ей заменили на Ставрополь с поселением в Покровском монастыре. Там она вновь работала над иконами, украшала стены храма. В 1896 году Митрофания уехала в Иерусалим, где прожила больше двух лет.
Вот что написал о её смерти «Московский листок»: «В четверг, 12 августа, после непродолжительной болезни на 75 году жизни скончалась, проездом в Москве, основательница Покровской епархиальной общины сестёр милосердия, известная по своему процессу в суде бывшая игуменья, а ныне монахиня Митрофания… Несмотря на свои преклонные лета и массу невзгод в жизни, почившая постоянно пользовалась крепким здоровьем и неутомимо занималась постоянно писанием образов и лечением больных. В среду, 11 августа, монахиня Митрофания прибыли в Москву и остановилась у г-жи Аладьиной на Спиридоновке, в доме Бойцова, желая на другой день отправиться в Балашовский монастырь; к вечеру её поразил нервный удар, и на другой день, в двенадцатом часу ночи, несмотря на медицинскую помощь, они тихо скончалась»[21].
В Давыдовском особняке к тому времени ничто уже не напоминало о Розенах, во власти которых он находился больше 20 лет. С 1870-х здесь обосновалась женская гимназия Софьи Арсеньевой (помимо этого здесь же квартировались десятки частных жильцов). Владельцем числилась Елизавета Голицына (купившая усадьбу за 110 тысяч рублей серебром).
Библиография
- Андреев В. Н. Жизнь и деятельность баронессы Розен, в монашестве игумении Митрофании. СПб., 1876.
- Забелина Е. П. Дело игуменьи Митрофании. М., 1874.
- Кони А. Ф. Избранные произведения: Статьи и заметки. Судебные речи. Воспоминания. М., 1956.
- Московский листок, 1899, № 225.
- Розен П. Г. Записки баронессы Прасковьи Григорьевны Розен, в монашестве Митрофании. М., Никея, 2010.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»