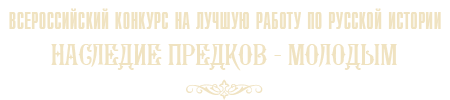Дьякова Е.М.
Памятник Петру I Фальконе и поэма Пушкина «Медный всадник» — редчайший случай глубокого сближения двух искусств, скульптуры и литературы.
Вовсе не случайно Пушкин избрал своим героем образ, созданный Фальконе; для своего сюжета он мог бы использовать и другой памятник Петру. То, что Пушкин избрал скульптуру Фальконе, объясняется глубокой внутренней близостью его замысла тому содержанию, которое было вложено Фальконе в его гениальное произведение. Совершенно поразительно то прозрение иностранного мастера, которое позволило ему во многом предвосхитить образ Петра у Пушкина. И, наоборот, нельзя не изумиться той точности восприятия скульптуры у Пушкина, которая помогла ему до конца использовать все многообразные оттенки скульптурного образа Фальконе и совершенно адекватно воплотить их в своей гениальной «петербургской повести».
История возникновения Памятника Петру I
Как известно, памятник Петру стоит на площади, открытой к Неве. По-видимому, идея этого местоположения принадлежит не целиком Фальконе. В 1766 году, через два месяца после его приезда в Россию для постановки памятника, некий барон Билиштейн подал записку о выборе места для нового монумента. Из числа четырех возможных площадей он предлагал остановиться на Сенатской как на самой грандиозной не только в Петербурге, но и в Европе. Она соединяла две основные части города — Адмиралтейскую с Васильевским островом: тогда как раз от нее шел понтонный мост. Наконец, важным моментом было для Билиштейна и то, что со всех точек этой площади прекрасно видна Нева.
Билиштейн предлагал поставить памятник слева от моста, на самом берегу реки, вернее, даже в самой реке, сделав для этого искусственный выступ берега — так, чтобы волны омывали подножие памятника. Это место казалось Билиштейну подходящим не только по художественным соображениям, но и по смысловым: верный сын своего века, Билиштейн подробно рассматривает вопрос об аллегорическом значении разных местоположений памятника. Здесь Петр смотрел бы правым глазом на основанное им Адмиралтейство и всю страну, а левым — на вновь завоеванные земли. Билиштейн возражал против другого места, откуда Петру пришлось бы смотреть левым глазом на древнюю часть страны.
Хотя эта записка вызвала большое раздражение Фальконе своими непрошеными советами, и он зло посмеялся над ее наивным аллегоризмом, но она все же, по-видимому, сыграла известную роль в выборе места для памятника; он был поставлен именно на Сенатской площади, хотя не на берегу, но почти против моста, что видно по старым планам, изображениям и, наконец, по сохранившемуся до сих пор повышению набережной к бывшему мосту. Надо признать, что это действительно прекрасное место для памятника Петру. Расположение на берегу невских волн более всего подходит тому,
...чьей волей роковой
Под морем город основался...
Петр у Фальконе — укротитель водной стихии; именно эта мысль легла в основу пушкинского образа,— правда, в несколько ином, более трагическом аспекте: триумфальная тема Фальконе приобретает в «Медном всаднике» катастрофический характер.
Чрезвычайно важно было и то, что он был помещен почти против моста; архитектор Фельтен, оформлявший набережную Невы — «береговой ее гранит»,— составил даже проект постановки памятника прямо на линии моста. Это должно было великолепно подчеркнуть устремленность всадника вперед, в свободное пространство — мотив, еще вполне близкий стилю барокко, только что отшумевшему над Европой. Такое местоположение, конечно, с исключительной силой подчеркивало заложенную в «Медном всаднике» гигантскую потенцию движения.
Фактически памятник оказался несколько сдвинутым к западу. Нет никаких указаний на то, почему Фельтену не удалось осуществить свою мысль. Но Фальконе блестяще вышел из положения, мастерски связав памятник с мостом: движение коня, устремленного прямо вперед, осложнено поворотом головы самого Петра и коня вправо, то есть как раз к тому месту, где мост открывал ему дорогу в просторы мира.
Эту композицию Фальконе нашел не сразу, но зато был особенно доволен, когда отказался от прежнего поворота коня влево, к сожалению, не указывая, в чем состоит тот «более важный мотив», который заставил его это сделать. Очень возможно, что это были общие планировочные соображения. В результате Фальконе вполне восстановил утраченное значение моста, как потенциального пути всадника и как реального пути зрителя, подходящего к памятнику. И приходится горько пожалеть о том, что новый Дворцовый мост (ныне Республиканский) был перенесен совсем в другое место: это заперло «Медного всадника» в клетке Сенатской площади и ее набережной. С противоположного берега Невы памятник виден плохо, так как даже его гигантские размеры не в силах переспорить необъятную ширину ее «державного теченья».
Памятник Фальконе представляет одно из самых блестящих достижений мирового искусства. Фальконе, еще глубоко связанный с уходящим рококо в своих нежных и грациозных образах всевозможных «Амуров», «Купальщиц», аллегорических «Зим», был страстным борцом за реализм, который он понимал вне поклонения античности. Как известно, он вел острую полемику с Винкельманом, ближе всего соприкасаясь с эстетикой Дидро, который ведь также относился не без страха к растущему культу античности: ее триумф был еще впереди.
В памятнике Петру нельзя узнать мастера полурокайльных миниатюрных статуэток; здесь неожиданно Фальконе обнаруживает мощный размах своего творчества; гениальный образ «Медного всадника» насыщен колоссальным героическим пафосом.
В то же время в нем есть и глубокая жизненная правда, за которую ратовал Фальконе, и строгая простота, которую он с жаром отстаивал, борясь со всеми советчиками, пытавшимися ему навязать велеречивые многофигурные аллегории и пышные надписи. «Пожалуй, до сих пор еще не все понимают,— писал Фальконе,— что известное излишество в наших искусствах чаще всего означает бесплодие». А в другой раз Фальконе защищал простоту своей надписи ссылкой на то, что «древние употребляли в. надписях на своих памятниках самый простой стиль»". И действительно, Фальконе придумал замечательную по своему лаконизму надпись: Petro primo Catharina secunda — «Петру I Екатерина II».
Самый образ Петра у Фальконе далек от театральной ходульности репрезентативных памятников барокко. Вопреки установившейся традиции, он изобразил своего героя одного, без всяких «связанных узников», которые томились у цоколя памятника всех государей со времени Пьеро Такка, окружившего ими свой памятник Фердинанду I Медичи в Ливорно (XVII в). Фальконе отказался и от военных доспехов. Его Петр одет в отвлеченную одежду, которую он назвал просто «героической». Скульптор резко подчеркивал, что он хочет изобразить Петра не полководцем, хотя он фактически и был им, а законодателем: «Надо показать людям прекрасный образ законодателя, благодетеля своей страны... Природа и люди воздвигали перед ним самые трудные препятствия, которые он поборол своим могучим гением и упорством».
Все это были идеи просветительной философии, которая хотела видеть в монархе не деспота, а «просвещенного друга народа», и, конечно, прав Рео, когда говорил, что памятник Петру был настоящей «воинствующей энциклопедией».
Таким образом, Фальконе, несомненно, нащупал путь к новому пониманию героики — путь, в конечном итоге приведший к неоклассицизму, к той самой античности, против которой он восставал.
«Медный всадник» в поэме А. С. Пушкина и скульптуре М. Фальконе
Близок к этому пониманию героя был и Пушкин, как известно, глубоко усвоивший идеи просветительной философии.
И пушкинский Петр, при всей своей кажущейся сверхъестественности, все же остается до конца живым человеком, как и у Фальконе, поборовшим все препятствия, которые перед ним нагромождали и люди, и стихии. Именно поэтому поэт-гуманист и гордится им как воплощением той гигантской мощи, которая заложена в человеке. Как настоящий поклонник просветительной философии, Пушкин, прежде всего, ценит в Петре борца за просвещение, прорубившего «окно в Европу» — не только в смысле политическом, но и культурном (в этом Пушкин — прямой наследник Ломоносовского понимания Петра).
Однако образ Петра у Пушкина сложнее, чем у Фальконе. До русского поэта идеи просветительной философии дошли уже очищенными в горниле французской буржуазной революции: он уже знал значительно более радикальные решения вопроса о монархе. Если для Фальконе Петр мог быть еще только «благодетелем своей страны», то Пушкин уже отлично понимал другой его лик — страшный лик деспота; именно поэтому ему и грозит Евгений: «ужо тебе». Мотив ужаса проходит красной нитью в «Медном всаднике». С этого Пушкин начинает свою центральную характеристику:
«Ужасен он в окрестной мгле!»
Если у Фальконе Петр — спокойный триумфатор, то Пушкин снова поднимает против него стихии, мстящие ему за попытку их укрощения; Пушкин не забывал, что его «Петрополь» «стоит на костях». Он вполне отдает себе отчет в сложном, противоречивом и трагическом характере своего героя, предвосхищая наше современное понимание Петра — как прогрессивного реформатора и как жестокого эксплуататора. Зародыши этого грозного облика есть и в памятнике Фальконе, как мы увидим ниже.
При всей близости скульптуры Фальконе к неоклассицизму, в ней все же много остатков барокко. Весь смысл этого произведения заключается в борьбе противоположных элементов - бурного порыва и железного самообуздания. Именно эта борьба делает памятник таким насыщенным потенциальной энергией, таким огненным и в то же время величаво-спокойным. Борьба этих противоречивых элементов разыгрывается в богатейших аспектах, открывающихся зрителю при обходе вокруг памятника по площади.
Исключительное мастерство скульптора заключается не только в этом разнообразии аспектов, но и в их органической связи друг с другом. Поистине он выступает здесь в роли музыканта, организующего восприятие своего творения во времени. Впрочем, этот дар присущ и всякому большому архитектору, учитывающему не только пространственный, но и временной путь зрителя, созерцающего его произведение; самая протяженность архитектуры неизбежно требует времени для того, чтобы она могла быть до конца воспринята, а это и ведет к неизбежности организующего вмешательства в восприятие зрителя. В этой организации проявилось глубокое понимание скульптором тех задач, которые были ему предъявлены архитектором. Одно из главных достижений Фальконе в его памятнике Петру заключается как раз в поразительно разработанной архитектонической композиции, в связи его скульптуры с пространством площади.
И вот здесь-то и наступает самый тесный контакт Фальконе с Пушкиным. В «Медном всаднике» и как раз показывает те основные аспекты, на которых держится процесс восприятия памятника, организованный скульптором, Пушкин даже прямо заставляет своего Евгения обходить «кругом подножия кумира».
Один из основных аспектов открывается при входе на площадь из глубины, со стороны Адмиралтейства, откуда Петр виден еще не совсем в профиль (несколько сзади). В этом аспекте борющиеся в памятнике силы показаны в наибольшей полноте и равновесии. Отсюда видны и буйный порыв коня, вынесший его на край скалы, и мощное движение всадника, осадившего его у самого обрыва: конь взвился на дыбы, осев на задние ноги. Отсюда лучше видна и властная рука Петра, протянутая вперед почти по горизонтали, величаво утверждающая покой, столь неожиданный в момент огненного движения. По-видимому, именно этот первый аспект вдохновил Пушкина на его центральную характеристику «Медного всадника», хотя в ней и появляются новые черты, осложняющие фальконетовский образ:
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне, какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Все в первом аспекте построено на борьбе двух сил. Стан Петра решительно откинулся назад, сопротивляясь порыву коня. Это прекрасно подчеркнуто линией отброшенной мантии, которая, однако, не развевается и не расплескивает движения в пространство, а спокойно падает на круп коня, объединяя с ним фигуру всадника в целостный силуэт. Та же непрерывная линия продолжается направлением длинного хвоста лошади, непосредственно переходя в развивающуюся по скале змею; эта сплошная линия в то же время является и линией опоры грандиозной бронзовой массы, взнесенной вверх и поставленной на двух тонких ногах коня, который взвился на дыбы. Надо отдать справедливость Фальконе, что он мастерски справился с этой технической и художественной задачей, соперничая здесь с Джамболонья и его знаменитым «Меркурием». Искусство Фальконе заключалось не только в том, что он сумел так рассчитать свои тяжести, что ему оказались достаточными тонкие ноги коня, его хвост и змея, чтобы удержать в равновесии весь памятник. Но это искусство заключалось и в том, что он всем этим объемам, в том числе и змее, сумел придать совершенно естественное положение, не внушающее зрителю ни малейших подозрений насчет того, что они выполняют здесь какие-нибудь иные, кроме смысловых и ритмических, функции.
Точка соприкосновения змеи со скалой имеет огромное значение в композиции всего памятника — все в том же первом аспекте: отсюда устремляются вперед две мощные силуэтные дуги — вогнутая, образуемая линией спины коня и всадника, и выгнутая — линия скалы, вздымающейся вверх гигантской волной, повторяя в усиленной степени движение коня. Таким образом, Фальконе достигает поразительного эффекта: сосредоточивая почти в одной точке начало всех силовых линий, он заставляет их выбрасываться в пространство, подобно взрыву. Ритмическая ясность замысла подчеркивается тем, что все крайние точки силовых линий лежат на единой дуге, описанной радиусом из точки их начального пересечения.
Совершенно изумительно найдена форма скалы под всадником, обработанная несколькими крупными ссеками. Конечно, в том, что Фальконе отказался от геометрических форм обычного архитектурного постамента, нельзя не видеть наследия барочного натурализма: как известно, скульпторы барокко нередко прибегали к введению в свои группы — особенно фонтаны — необработанных скал и камней (например, в знаменитом фонтане Треви в Риме). Идея помещения конной статуи на скалу впервые появилась, как установил Рео, у Лебрена, в эскизном проекте памятника Людовику XIV.
Своеобразие скалы у Фальконе заключается в том, что она только кажется необработанной глыбой; на самом деле она отделана с исключительно тонким пониманием ритмических задач композиции. Не только силуэт скалы в виде мощной морской волны, но и все гранящие ее плоскости ссеков теснейшим образом увязаны с общей композицией памятника. Так, в рассматриваемом аспекте ее форма носит подчеркнуто крутой характер в связи с напряжением движения, сосредоточенным здесь. Напротив, слева, с противоположной стороны, где полет коня легче и меньше чувствуется останавливающая его сила — и ссеки скалы носят плавный, хотя и стремительный характер: их очертания здесь почти прямые. Сзади Фальконе максимально концентрирует впечатление, сводя силуэт своей группы к узкой, почти вертикальной форме, с особенной силой подчеркивая контраст с вытянутой по горизонтали рукой.
Этот аспект также учтен Пушкиным: он дважды возвращается к нему вместе с Евгением, созерцающим Петра с подъезда дома, когда-то принадлежавшего Лобанову-Ростовскому, рядом с Исаакиевским собором. Отсюда Петр виден почти со спины, и Пушкин гениально подчеркивает в нем самое главное здесь — протянутую руку:
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне...
Поскольку фигура всадника и конь отсюда сконцентрированы до предела, постольку и скала представляет узкий риф, едва превышающий по ширине круп коня. Но и здесь Фальконе не хочет слишком простой композиции: этот аспект он использует, чтобы выявить спиральный поворот своей группы в пространстве, начинающийся со складок мантии, закинутой налево, продолжающийся изгибом хвоста, затем змеи и, наконец, скалы.
Отсюда вполне закономерным представляется и поворот вправо головы Петра, так же как и головы коня, завершающий разворот пружины, начавшейся с изгиба скалы. Ясно, конечно, что этот винтовой разворот совершенно необходим Фальконе не только для того, чтобы обогатить движение группы, но и затем, чтобы связать ее со всем окружающим пространством: благодаря ему не оказывается ни одной мертвой точки на площади, с которой памятник оказался бы не воздействующим на зрителя. В частности, этот разворот идеально увязывал памятник со сдвинутым вправо мостом.
По мере движения зрителя по площади с востока на запад, по часовой стрелке, позади памятника, концентрация впечатления начинает несколько разряжаться: левее, откуда не видна протянутая рука, зритель чувствует не столько борьбу двух сил, сколько свободное движение коня, поддержанное плавным подъемом скалы.
При дальнейшем движении нарастает стремительность скачущего коня, чтобы достигнуть апогея спереди, где благодаря ракурсу не видно, как он оседает на задние ноги. Отсюда зрителю кажется, что он несется прямо на него, готовый растоптать его своими копытами. Впечатление особенно усиливается вблизи памятника: гигантская бронзовая масса, поднятая вверх на тонких ногах коня, готова обрушиться на голову зрителя. Вблизи, конечно, особенно чувствуется колоссальный масштаб памятника, далеко превышающий натуральную величину: зритель ощущает себя пигмеем перед «кумиром на бронзовом коне», ему становится понятно чувство Евгения, раздавленного монументальной мощью «Медного всадника». Это — самый грозный его аспект: надо думать, что именно в этом положении его видел за собой пушкинский безумец, убегавший от «тяжелого звонкого скаканья». В этом аспекте появляются у Фальконе те зародыши образа деспота, которые у Пушкина разовьются в сложный замысел его «повести».
Крайне характерно, что «Медный всадник» оживает у Пушкина: то потенциальное движение, которое напрягает скульптуру Фальконе, как бы ищет выхода в реальное пространство, и потому совершенно естественное развитие образа Фальконе представляет пушкинский «Медный всадник», скачущий по улицам Петербурга:
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...
Это — последнее появление «Медного всадника» у Пушкина. Разрешение того колоссального напряжения, до которого он довел своего читателя в описании преследования Евгения, Пушкин дает в эпилоге:
...Остров малый
На взморье виден.
Здесь смерть Евгения изображена уже на фоне спокойной и равнодушной природы: субъективная мука переводится в план объективной действительности и потому теряет свое острие.
Фальконе, работавший в искусстве пространственном, находит иное разрешение тому же самому напряжению: он просто переводит зрителя к первому аспекту. В момент высшего напряжения уже появляется покоряющая, но и успокаивающая рука, подготовляя то гармоническое впечатление, которое дает первая, описанная мною, точка зрения. Круг замыкается на полном разрешении того сверхъестественного напряжения, которое дает передний аспект памятника. Таким образом, обход вокруг него построен на системе замкнутого ритмического процесса, подобно законченному музыкальному или поэтическому произведению.
Огромная роль скалы в композиции памятника вполне объясняет то раздражение, которое вызвало у Фальконе невежественное требование критики и особенно русских властей, чтобы скала осталась в том виде колоссальной глыбы, какою она была доставлена в Петербург: эти размеры должны были служить показателем могущества самодержавного правительства, которое легко могло справиться с неслыханными трудностями по ее доставке благодаря крепостному труду
Борьба из-за скалы была одним из многочисленных проявлений той скрытой травли, которой подвергался Фальконе при царском дворе из-за самостоятельности своего характера и поведения. Когда ко всему прочему прибавились еще обвинения, связанные с отливкой памятника, это переполнило чашу терпения мастера, и он покинул Петербург, не дождавшись открытия его памятника и не увидев завершения своего многолетнего труда.
При нынешнем расположении памятника площадь достаточно широка, чтобы зритель имел возможность увидеть его на фоне неба, что, конечно, является наилучшим для бронзового памятника с его четким силуэтом: об этой четкости, как мы видели, с большим искусством позаботился Фальконе. Но и при приближении к памятнику, когда он попадает на фон светлых стен, четкость его силуэта не исчезает; трудно сказать, как это происходило при Фальконе, так как сейчас не сохранилось на площади ни одного из прежних зданий. Все же они были ниже нынешних, что и позволяло видеть памятник не хуже, чем сейчас. Можно считать, что обозримость памятника была даже лучшей, так как зритель имел возможность постепенно подходить к нему по мосту; с другой стороны, не было и сквера за его спиной, так что он рисовался на фоне глубокого пространства площади. «Исаакий» в глубине ее только начал тогда строиться.
Однако нельзя сказать, что памятник рассчитан на рассматривание только на далеком расстоянии, в виде силуэта. Напротив, подходя ближе, зритель замечает чрезвычайно богатую, точную и упругую разработку всех его объемов. Фальконе мастерски умеет выделить главные их части, например, фигуру Петра в первом аспекте, оттенив ее темной тенью под отброшенной мантией. Глубокое знание человеческого тела и тела коня позволяет Фальконе подчеркнуть главное и избежать ненужной детализации.
Слияния двух искусств
Памятник Петру I Фальконе и поэма Пушкина «Медный всадник» — редчайший случай глубокого сближения двух искусств, скульптуры и литературы. Конечно, вовсе не случайно Пушкин избрал своим героем образ, созданный Фальконе; для своего сюжета он мог бы использовать и другой памятник Петру, работы Растрелли, поставленный перед Михайловским замком. То, что Пушкин избрал скульптуру Фальконе, объясняется глубокой внутренней близостью его замысла тому содержанию, которое было вложено Фальконе в его гениальное произведение. Совершенно поразительно то прозрение иностранного мастера, которое позволило ему во многом предвосхитить образ Петра у Пушкина. И, наоборот, нельзя не изумиться той точности восприятия скульптуры у Пушкина, которая помогла ему до конца использовать все многообразные оттенки скульптурного образа Фальконе и совершенно адекватно воплотить их в своей гениальной «петербургской повести». Отсюда громадный интерес, который вызывает памятник Фальконе у всех, кому дорог Пушкин.
«Медный всадник» у Фальконе — живой человек, несмотря на свою сверхъестественную мощь,— живой не только в смысле чувственной передачи тела, как это было в скульптуре рококо, но и в смысле психологической характеристики. Именно поэтому охотно веришь Пушкину, когда он говорит:
...Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
При всем барочном гиперболизме в памятнике Петру все же проявилось новое понимание героя-человека, зарождавшееся тогда на Западе в неоклассицизме, но начинавшее манить и русских людей. Правда, это понимание давалось русскому обществу нелегко. Фальконе намного опередил своих русских современников. Неоклассицизм, возникший на Западе во второй половине XVIII века, получил подлинное развитие в России лишь в начале XIX века. Но Фальконе и сам еще стоял на пороге неоклассицизма: он был далек от той новой формы абстрактной трактовки образа, к которой привело стремление неоклассицизма к героической идеализации. Именно потому Фальконе и перекликается с Пушкиным, который, наоборот, пришел уже на исходе русского неоклассицизма, когда его противоречие между идеализацией и реалистической правдой уже начинало разрешаться в сторону реализма. Отсюда — возможность глубокого сближения Фальконе и Пушкина, при несомненных стилистических различиях между монументальным произведением скульптора и стихотворной «повестью» поэта.
Сближение это выразилось не только в понимании героя вообще, но в понимании конкретного героя — Петра: Фальконе и Колло удалось с предельным мастерством воплотить то его понимание, которое начинало тогда слагаться в России, предвещая будущий образ его у Пушкина.
Таким образом, памятник Фальконе лишний раз доказывает глубокие связи великого русского поэта с культурой, рожденной французской революцией: Фальконе, ее предшественник, несомненно, нес в себе — вместе со всеми просветителями — те зерна, из которых родились новые, революционные идеи. Они же воодушевили потом и русского поэта, боровшегося за свободу человечества.
В «Медном всаднике» оба творца подали друг другу руку на расстоянии полувека,— соединив свое вдохновение в двух конгениальных шедеврах.
Список Литературы
- Сборник Русского Исторического общества, т. 17, с. 331-349.
- Сборник Императорского Русского исторического общества, Санкт–Петербург., 1876.
- Историческая выставка архитектуры 1911 г., с. 134-135.Санкт – Петербург.
- Письмо Фальконе от 23 мая 1769 г. (Сборник Русского Исторического общества, т. 17, с. 39).
- Сборник. Русского. Исторического общества, т. 17, с. 119. Письмо от 14 авг. 1770 г.
- Из истории классического искусства.– М.: « Советский художник», 1988. – 280с., 145 ил. – (Библиотека искусствознания), с. 215 – 223.
Памятник Петру I Медный Всадник (Э.Фальконе)






При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»