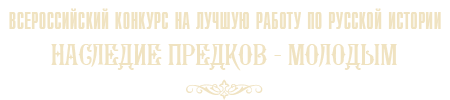Попов Д.В.
В современном мире развитие ситуации на Кавказе вызывает особое внимание российского общества вот уже второе десятилетие. В связи с этим изучение отношения русского общества к кавказской проблематике в историческом контексте представляется в этой ситуации оправданным и необходимым.
Объект данного исследования - политика России на Кавказе периода Кавказской войны, Предмет данного исследования выступает процесс изменения взглядов русского общества на Кавказскую войну ХIХ века. Отечественная общественная мысль по отношению к кавказской проблематике формировалась, как синтез противоречивых мнений нашедших свое отражение в периодике, отдельных изданиях, воспоминаниях и мемуарах непосредственных участников войны, а так же в работах историков XIX столетия.
Хронологические рамки исследования ограничены следующими параметрами: От предполагаемой большинством исследователей даты начала войны, до времени ее окончания (1816-1864). С учетом предшествующего и ближайшего последующего временных отрезков, рассматриваемый период достаточно широк и захватывает период XIX столетия.
Цель данной работы - рассмотреть процесс изменения отношения русской общественности к Кавказской войне на протяжении XIX века и выявить его историческую значимость в связи с современными проблемами России в Северокавказском регионе.
Задачами нашего исследования являются:
1)На основании воспоминаний участников войны, мемуарной литературы, публицистики, исторических работ определить и сопоставить позиции российской общественности XIX века в отношении Кавказской войны (оценки причин, характера, хода, итогов).
2) Выявить историческое значение отношения русской общественности к Кавказской войне XIX века и войнам в кавказском регионе в контексте современной российской реальности.
Основным методом нашей работы является сравнительно-исторический, позволяющий рассмотреть процессы и явления в развитии и в соответствии с конкретной исторической обстановкой, выявить причинно следственные связи, проследить существующие тенденции. (Сопоставление позиций, различных точек зрения на проблемы Кавказской войны, позволяющее выявить существенные признаки русского общественного мнения). Так же использованы общенаучные методы анализа и обобщения. Основными принципами работы являются принцип историзма и принцип объективности (необходимо воспринимать исторические факты и события.
Кавказская война XIX века, по самым минимальным меркам длившаяся шестьдесят лет, ежегодно изымавшая из государственной казны миллионы рублей, унесшая жизни десятков тысяч русских солдат и офицеров до сих пор носит на себе печать одной из самых неизвестных войн русского государства. Неизвестная или забытая для нас, людей рубежа ХХ-ХХI века, чем была она для своих современников? Как относилось к происходящему на Кавказе русское общество, и каково было реальное восприятие этим обществом кавказской драмы. Эта важная для понимания жизни России тема не получила достойного отражения в исторической литературе. Необходимо проанализировать огромный слой мемуарной, эпистолярной и художественной литературы. Данная работа не претендует на полномасштабное исследование и ставит целью наметить основные тенденции, характерные для восприятия русским обществом кавказских проблем.
В мемуаристике периода Кавказской войны - в воспоминаниях лиц, не принимавших непосредственного участия в боевых действиях, и не бывавших на Кавказе, - эта тема возникает достаточно редко. Война в Афганистане и другие современные войны волнует современное наше общество гораздо острее, чем война на Кавказе беспокоила общество первой половины XIX века.1 И это само по себе подлежит осмыслению. К сожалению, восстановление реального отношения к этой войне огромной массы простых людей сопряжено с трудностями отсутствия достоверной информации. Абсолютное большинство источников личного происхождения, дошедшее до нас принадлежат людям высших сословий, высокопоставленным военным чинам.2
Вследствие этого здесь уместным будет говорить об отношении к Кавказской войне не всего русского общества в целом, а преимущественно его элиты. Составленной в основном людьми, принадлежащими к офицерскому составу русской армии, а так же представителями русской литературы. Весной 1833 года Пушкин писал в черновике письма, которое он собирался отправить опальному «проконсулу Кавказа» Ермолову; «Ваша слава принадлежит России и Вы не вправе ее утаивать. Но, собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло, наконец, описание Ваших закавказских подвигов.... До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает все - и одни только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке...». 3 Это было написано в 1833 году - на Кавказе в самом разгаре поднятое первым имамом Кази-Муллой движение мюридизма, позади богатая событиями эпоха генерала князя Цицианова - с 1802 по 1806 год, позади десятилетие эпохи Ермолова, важнейшего этапа в Кавказской войне. Уже появился на исторической арене Шамиль, который вскоре сам станет имамом. Кавказ бурлит уже треть века, там сложили головы тысячи русских солдат и офицеров, а весьма осведомленный Пушкин утверждает, что о происходящем там знают «только некоторые люди». И он не ошибался, малоизвестными для русского общества были не только первые годы Кавказской войны, заслоненные наполеоновскими войнами, но и все последующие ее периоды. В 1860 году, после пленения Шамиля - когда до завершения войны оставалось еще четыре года, - один из знатоков и идеологов завоевания Кавказа, его участник, генерал Ростислав Фадеев писал: « Наше общество в массе своей не сознавало даже цели, для которой государство так настойчиво, с такими пожертвованиями добивалось покорения гор » (Р.А. Фадеев. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис. 1860).4 И в самом деле представления даже наиболее выдающихся людей русского общество о целях многолетней изнурительной войны были довольно неопределенны.
Молодой Пушкин писал в 1820 году брату Льву после поездки на Северный Кавказ: « Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах - и, может быть, сбудется для нас химерической план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».5 Ни одно из этих мечтаний - кроме разве что обеспечения флангов и тылов русской армии в случае войн с Турцией и Персией - не имело реальных оснований.
Ни торговля с «золотыми странами Востока», ни «химерический план» прорыва в Индию, принадлежавший изначально Петру I, потратившему на «каспийские дела» бездну средств и человеческих жизней, план, давший первые импульсы будущей Кавказской войне, не реализовались. Все это было вполне призрачно и не оправдывало того колоссального напряжения, с которым Россия вела войну на Кавказе. Дело в том, что ведение столь продолжительной, столь затратной как в финансовом, так моральном отношении войны требовало наличия четкой цели, а так же «мощной психологической потребности» той части общества, которая ответственна за решения. У русского самодержавия и русского дворянства должна была быть органичная ведущая идея, лежащая в основе действий на Кавказе, что бы они начались и столько лет длились. Но ответы на вопросы - в чем истинный смысл завоевания Кавказа? Чем оправданы колоссальные жертвы, приносимые ради этого завоевания? Есть ли иные пути решения этого кризиса? - были столь туманны и противоречивы, что длительное время официальные публицисты и государственные мужи не рисковали даже их ставить. И как часто это бывает в подобных случаях, проблемой занялись люди по тем или иным причинам не имеющие возможности прямо влиять на события.
Впервые ясно и недвусмысленно наиболее радикальное решение очертил Пестель в своей «Русской правде». В первой главе своей конституции - «О земельном пространстве государства» - радикальный революционер государственник, говоря о землях, которые необходимо присоединить к России «для твёрдого установления государственной безопасности» утверждал. «Касательно кавказских земель, потому что все опыты, сделанные для превращения горских народов в мирные и спокойные соседи, ясно и неоспоримо уже доказали невозможность достигнуть сию цель. Сии народы не пропускают не малейшего случая для нанесения России всевозможного вреда, и одно только то средство для их усмирения, чтобы совершенно их покорить, покуда же не будет сие в полной мере исполнено, нельзя ожидать ни тишины, ни безопасности, и будет в тех станах вечно существовать война... ».
Во второй главе - «О племенах Россию населяющих» - Пестель решительно развил свои соображения: «Кавказские народы весьма большое количество отдельных владений составляют. Они разные веры исповедуют, на разных языках говорят, много различья обычае и образ управления имеют и в одной только склонности к буйству и грабительству между собой сходными оказываются. Беспрестанные междоусобья ещё больше ожесточают свирепый и хищный их нрав и прекращаются только тогда, когда общая страсть к набегам их на время соединяет для усиленного на русских нападения. Образ их жизни, приводимый ежевременных военных действиях, одарил ещё народы примечательной отважностью и отличительной предприимчивостью. Но самый сей образ жизни есть причиной, что эти народы столь же бедны, сколь и мало просвещены. Земля, в которой они обитают издревле, известна как край благословенный, где все произведения природы с избытком труды человека награждать могли бы, и который некогда в полном изобилии процветал, ныне же находится в запустело состоянии и никому никакой пользы не приносит, оттого, что народы полудикие владеют, сей прекрасной страной. Положение сего края сопредельного Персии и Малой Азии могло бы доставить России самые замечательнейшие способы к установлению деятельнейших и выгоднейших торговых отношений с Южной Азией и, следовательно, к обогащению государства. Всё же сие теряется совершенно оттого, что кавказские народы столь же опасные и беспокойные соседи, сколь ненадёжные и бесполезные союзники. Принимая к тому же соображения, что все опыты показали уже неоспоримым образом невозможность склонить сии народы к спокойствию средствами кроткими и дружелюбными, разрешается Временное Верховное Правление». Далее, Пестель предлагает ряд практических мер, по его мнению, необходимы для достижения естественных целей России: «1. Решительно покорить все народы, живущие и все земли лежащие к северу от границы, имеющей быть протянутой между Россией и Персией, а равно и Турцией, в том числе и приморскую часть, ныне Турции принадлежащую. 2. Разделить все сии кавказские народы на два разряда: мирные и буйные. Первых оставить в своих жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробив их малым количеством по всем русским волостям. 3. Завести в кавказской земле русские селения и сим русским передать все земли, отнятые у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних (т.е. теперешних) его обитателей и обратить сей край в спокойную и благоустроенную область Российскую» (П. Пестель «Русская Правда»). 6 Пестель писал это в 1824г., когда активный период Кавказской войны длился около четверти века, и действительно были использованы различные способы замирения горских обществ. В 1824 году ситуация на северо-восточном Кавказе была сравнительно спокойной, но Пестель точно оценил это спокойствие. В 1825 г. восстала вся Чечня и была подавлена Ермоловым. Но Кавказ уже стоял на пороге мюридизма.
«Русская Правда» документ, продолжающий традицию утопических проектов. Но в подходе Пестеля к кавказской проблеме есть одно достоинство - он совершенно рационален. Он выбрал наиболее прямой, не отягощенный никакими побочными - прежде всего нравственными, -соображениями путь к цели. Пестель представил чисто имперскую государственническую точку зрения и обосновал её системой аргументов.
Во-первых, необходимость защититься от набегов; во-вторых, необходимость контролировать постоянный очаг нестабильности на южной границе; в-третьих, необходимость обеспечить безопасность азиатской торговли России; и, наконец, в-четвертых, необходимость рационально использовать природные условия, которыми не умеют пользоваться «полудикие народы» Кавказа. Последний пункт очень характерен: оправдание безжалостного отношения к горцам - уверенность в их хозяйственной и гражданской неполноценности (точка зрения вполне совпадает с Ермоловской). И с этой точки зрения они совершенно незаконно занимали земли, которые могли быть использованы с пользой для государства.
В рапорте царю в мае 1818 года Ермолов писал: «Обозревая границы наши, против владений чеченских лежащие, вижу я не одну необходимость оградить себя от нападений и хищничеств, но усматриваю, что от самого Моздока и до Кизляра, поселенные казачьи полки и кочующие караногайцы, богатым скотоводством полезные государству, приносящие казне великую пользу, по худому свойству земли не только не имеют ее для скотоводства избыточно, ниже для хлебопашества достаточно и что единственное средство доставить им эти выгоды и с ними совокупить спокойствие и безопасность - есть занятие земли, лежащей по правому берегу Терека ».7 Собственно Кавказские земли не были столь обширны, что бы приобретение их стоило таких колоссальных жертв и затрат. Главный смысл - ликвидация горских племён как военно-политического фактора (Ермолов за несколько лет до Пестеля писал о развращающем примере горской свободы для России). Такова была «оправдательная доктрина» Пестеля. Но современное ему самодержавное государство не могло позволить себе ни подобных действий, ни подобных деклараций. Но Пестель и его радикально-имперские единомышленники (главным образом, вне Тайного общества) были явным меньшинством. Большинство - и практики завоеватели, и публицисты государственники -жаждало осознания нравственной цели Кавказской войны - крупной, ясной, исторически обоснованной, которая оправдала бы огромные жертвы, и уже понесённые, и те, что предстояло понести в будущем. В противном случае в русском общественном сознании рано или поздно образовалась бы болезненная сфера, порождаемая непониманием и ощущением неоправданности жертв и усилий. Обстановку на Северном Кавказе по-разному объясняли в российских правительственных кругах. Петербург видел два основных направления в дальнейшем продвижении в Закавказье и установлении военно-политического контроля над Северным Кавказом. Однако у правительства Александра I общие установки не сложились в саму программу, которая предусматривала бы весь комплекс мер по осуществлению нового внешнеполитического курса России на Кавказе. Считалось, что подробную программу следует составлять не в Петербурге, а на Кавказе, не правительственным кабинетом, а человекам, готовым претворить ее в жизнь.8 Александр I и правительство остановило свой выбор на кандидатуре А.П. Ермолова. В правомочности и неизбежности завоевания Кавказа сомнений не возникало, но потребность в стройной и убедительной оправдательной доктрины всё же была. После наполеоновских войн молодые русские генералы и офицеры, сохранившие мощную инерцию действия, ощущавшие себя спасителями Европы и освободителями народа, искали выхода своей энергии. С конца десятых кодов русское общественное сознание готовилось к освободительному походу ради единоверных греков -наследников эллинской свободы. И на Кавказе, победители Наполеона,
чувствовали себя, прежде всего носителями гражданской цивилизации, просвещения и правосудия. А, воплощением дикости, политической отсталости, свирепости, не подобающей XIX веку, были Кавказские ханства. Эти цели - воспитание горцев в духе цивилизованных представлений и воспитание их потомства в том же духе - Ермолов громогласно декларировал: «Царствованию варварства приходит конец по всему азиатскому горизонту, который поясняется, начиная от Кавказа, и провидение предназначило России принести всем народам вплоть до самых границ Армении мир, процветание и просвещение».9 Идеальная цель Ермолова - сделать присоединенные области российскими уездами, а их жителей - русскими. «Образование народов принадлежит векам, не жизни человека», - совершенно справедливо замечает Ермолов в письме к Воронцову. Ближайшую же задачу он видит в уничтожении наиболее вопиющих проявлений деспотизма и введении во владениях России хотя бы подобия российского управления, которое, по его мнению, все лучше того, что было там раньше.10 Уверенность в собственной правоте и превосходстве, давала, по мнению многих участников войны, право применения жестких средств, больше того подобный подход считался едва ли не единственно возможным: «В странах одичалых, среди народов нецивилизованных восстановление своей власти, колеблющегося внимания, уважения к себе совершается силою и деспотизмом».11 С появлением Ермолова начинается эпоха непрерывных военных действий, а вооруженная борьба становится все более ожесточенной. И эти жестокие методы ведения войны с горцами, начиная с ермоловских времен, признаются необходимыми не только в официальных документах, но и в общественном сознании.12 Война с горцами не на жизнь, а на смерть признавалась делом соответствующим государственным интересам России, а жестокие методы борьбы не самоцелью, а лишь средством для достижения цели.
Идея цивилизаторской миссии России на Кавказе оставалась актуальной до самого окончания войны и стала ее органичной частью. Так в 1857 году Зиссерман торжественно заявляет: «С полной уверенностью могу повторить: не далеко то время, когда просвещение поборет варварство, когда благодетельная гражданственность укротит лихорадочные порывы фанатизма и хищность буйной воли».13 Установка на право сильного у просвещенного европейца есть следствие принципиального отрицания миропредставлений горцев. Цельное сознание горца принимало компромисс лишь как тактический ход, как допустимую хитрость. Но в большинстве случаев делая свой единственный выбор, между покорностью русским и смертью горцы выбирали второе. Подобная «азиатская твердость характера», по выражению Н.В. Симановского, когда горец решался «лучше умереть, чем сделаться зависимым, чем лишиться своей свободы» была частным случаем психологии целого народа. И хотя, в частности от Д.А. Милютина, звучали предложения использовать помимо военных методов средства «нравственного» и «материального» влияния, «согласовывать» наше владычество с интересами самих горцев», «щадить их верования, обычаи нравы»,14 до реального воплощения они не доходили.
Первое обзорное сочинение по истории Кавказской войны, вышло в Петербурге в 1835г. (П. Зубов. Подвиги русских воинов в станах Кавказских с 1800 по 1834. СПб., 1835). В нем была сделана попытка, дать общую картину военных действий на Кавказе и в Закавказье первой трети XIX века. Платон Зубов в прологе пытался сформулировать такую идею: «Исполнители великих намерений российского Монарха, они извлекли Грузию и сопредельные ей земли, подвластные российскому скипетру за Кавказом, из страшного анархического состояния; создали их благоустройство, политическую свободу, неприкосновенность собственности, озарили просвещением и гражданственностью; дали способность России предвидеть важные выгоды от её Закавказских владений и заставили Персию и Азиатскую Турцию трепетать от российского оружия»15. Центральная идея здесь - чисто благотворительная: спасение, благоустройство и просвещение единоверного народа. Исполнение христианского долга. Действия в Закавказье и - неизбежно на Кавказе оказывались новым подобием крестового похода. Через 60 с лишним лет, после окончания войны, этот религиозно-благотворительный аспект ретроспективно сформулировал Данилевский: «Мелкие христианские царства ещё со времени Грозного и Годунова молили о Русской помощи и предлагали принять русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования согласился, наконец, исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истощены вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести далее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжёлую обузу, хотя может быть, не предугадывала, что она может быть так тяжела, - что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней войны. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по форме, тут не было завоевания, а было подаяние помощи изнемогающему и погибавшему».15 Но всё это формулировалось постфактум. А в разгар изнурительной войны идея крестового подхода, сопряжённая с такими жертвами и усилиями была уже недостаточна.
В первое десятилетие XIX в. мощная инерция имперского строительства, рывка России на юг в Причерноморье, подвиги в этом направлении Румянцева, Суворова и Потёмкина, воспитанниками, которых были генералы-завоеватели этого периода, заменяли идеологию войны. Позже энтузиазм, рожденный подавлением Польши, во время которого и прославился первый покоритель Кавказа, князь Павел Дмитриевич Цицианов, играл ту же роль.
Но после 1812г. и заграничных походов требовалось нечто иное, дополняющее и облагораживающее идею государственной пользы как таковой. Требовалось нечто схожее с идеей, одушевляющей русское общество в его постоянном противостоянии Турции: во-первых, освобождение единоверных и единокровных братьев-славян и братьев по вере и культуре греков, - как аспект гуманистический и религиозный. Во-вторых, контроль над Босфором и Дарданеллами, обеспечивающий беспрепятственный выход в Средиземноморье, - как аспект прагматический. Противостояние Турции воспринималось как грандиозная историческая задача европейского масштаба, как благородная миссия, восходящая к миссии Руси, заслонившей Европу от Монголов. Эти представления трансформировались в XIX веке в чистый миф, но миф психологически комфортный и духовно мобилизующий.16 Ермоловский период - приход на Кавказ людей 1812 г., участников заграничных походов с их антидеспотическими настроениями - принёс намётки новой доктрины -цивилизаторской и гуманизаторской, на основе которой Ермолов повёл непримиримую борьбу, результаты которой зачастую не были соответственными.
Как это ни парадоксально, самым внимательным и пристально анализирующим наблюдателем кавказских дел в наиболее тяжёлый период войны был загнанный вглубь Михаил Сергеевич Лунин, один из наиболее сильных мыслителей декабризма. Историософски мыслящий человек Лунин включает Кавказскую войну и всё, что связано с кавказским делом, в общий контекст российской жизни. Пассажи о тяжком внутреннем положении России (голод, бедствие), вклиниваются в рассуждения Лунина о подавлении Польши и завоевании Кавказа. Выстраивается некая единая система взаимоотношений глубоко неблагополучной империи со своими составляющими. Лунин, безусловно, приветствует включение в состав империи новых территорий - «областей Эриванской, Нахичеванской, и Ахалцыхской». Кавказская война вызывает его резкое неприятие не сутью своей, но самим характером действий и последствиями их для России. «Разорительная и убийственная война, заполнившая три предыдущих царствования, оправдать которую можно лишь политическими соображениями, всё ещё длится на Кавказе. Внутренняя часть обширной территории, вдающейся в пределы империи, по прежнему находится во власти нескольких полудиких народцев, которых не смогли ни победить силой оружия, ни покорить действенными силами цивилизации... Медленность военных операций в этих краях приписывают обычно трудностям местности, нездоровому климату и воинственному нраву туземцев. Однако современная наука не считает большими препятствиями неровности почвы, климат, в котором произрастает виноград, хлопок и т.д., не может быть вреден для человека, и, наконец, бедные туземцы, которых стараются преобразить в столь мрачных красках, это всего лишь слабые разрозненные орды, лишённые союзников, невежественные в военном искусстве. Но естественнее не приписывать вялый характер войны причине, в той или иной мере тормозит успехи правительства. Ему пришлось сменить подряд несколько главнокомандующих за их небрежность или явную неспособность... Правительству не достаёт людей, потому что ему самому не достаёт принципов»17.
Речь идёт об отсутствии убедительной идеологии, которая облегчила бы процесс завоевания Кавказа, которая в чисто военном отношении не представлял, по мнению Лунина, ничего невозможного. Лунин явно не был сторонником компромиссного решения конфликта России с Кавказом. Он был убежденным сторонником военного давления на «слабые разрозненные орды» «бедных туземцев» с одновременной разумной организацией края. К стати обобщающий термин «туземцы» является одним из наиболее употребляемых в этот период в отношении горских племен (См: воспоминания Волконского Н.А., Барятинского В.И., Филипсона Г.И.).
У декабристов, близких к Лунину и разделявших убеждение в неизбежности и необходимости завоевания Кавказа, когда сами они оказались лицом к лицу с кавказской реальностью, появлялись соображения, отличные от лунинеких в деталях, но принципиально развивающие и конкретизирующие их. Андрей Розен в воспоминаниях оставил свидетельство этого движения взглядов. «Прощай, Кавказ! С лишним уже 140 лет гремит оружие русское в твоих ущельях, чтобы завоевать тебя окончательно, чтобы покорить разноплеменных обитателей твоих, незначительных числом, диких, но сильных в бою, неодолимых за твердынями неприступных гор твоих; иначе русский штык-богатырь давно довершил бы завоевание». 18 Здесь важны две вещи. Розен писал кавказские главы «Записок», судя по всему, в конце 1850-х годов - но до пленения Шамиля, иначе он обязательно упомянул бы об этом роковом моменте войны. Он считает завоевание далеко ещё не законченным, что свидетельствует о настроениях в обществе, о том как представлялась в самой России с итуация на Кавказе. То, что пленение Шамиля и фактическое окончание войны в 1859 году было полной неожиданностью, подтверждается и другими источниками.
Д.А. Милютин в 1859 году пишет: «Счастливый переворот совершился так быстро, почти внезапно, во всей восточной половине Кавказа и превзошел все наши ожидания».19 Р. Фадеев, участник, идеолог, историограф Кавказской войны, так начал свою книгу о ней: «В прошлом сентябре Россия прочитала с удивлением, едва веря своим глазам, телеграфические донесения князя Барятинского Государю Императору, извещавшие, «что Восточный Кавказ покорён от моря Каспийского до Военно-Грузинской дороги», что «Шамиль взят и отправлен в Петербург»; «русское общество знало, хотя и смутно, что в последнее время дела пошли на Кавказе хорошо, но далеко ещё не ждало такого быстрого конца» (Р.А. Фадеев. 60лет Кавказской войны. Тифлис 1860, с.1).20
Это ещё одно подтверждение, что Кавказская война была событием неизвестным для русского общества. Об этом же говорит A.M. Дондуков-Корсаков. в 1845-1846 годах «Кавказ еще считался для большей части русского общества «terra inkognita»; о нем только знали по разговорам гвардейских офицеров, ежегодно командируемых для участвования в экспедициях, и из официальных реляций военного начальства и сведений Военного министерства».21 В конце 50-х годов - уже есть телеграф, масса газет. Существует институт корреспондентов, газеты соревнуются по части свежих новостей, цензура не свирепствует, - а общество «смутно» представляет себе, что же происходит на самом многолетнем театре военных действий в отечественной истории. Розен абсолютно не сомневается в необходимости покорении Кавказа и конечной достижимости этой цели. Как и Лунин он сетует на длительность войны, но объясняет это совершенно по иному. Лунин считал первопричиной устаревшую порочную идеологию, выдвигающую принципиально неспособных людей, не умеющих «организовать» завоёванное пространство. Розен объясняет эти неуспехи русского оружия чисто географически: горцы «неодолимы за твердынями непреступных гор» Кавказа. И, наконец, хронология. Розен определяет длительность Кавказской войны около 1859 года в 140 лет. То есть возводит ее начало к персидскому походу Петра I. Далее он пишет: «Мы давно владеем равнинами по сию сторону Кавказа; владения наши по ту сторону гор, в Закавказье, простираются далее прежней границы Персии, а все еще Кавказ не наш; ни путешественник, ни купец, ни промышленник не посмеют ехать за линию без воинского прикрытия, без опасения за жизнь свою и за имущество»22. То есть Розен стоит на позиции ограниченно прагматической. Необходимость победоносного завершения Кавказской войны диктуется невозможностью терпеть внутри империи опасный неподконтрольный анклав, угрожающий безопасности российских граждан и успехам торговли. Таким образом, речь идёт о коммуникациях с Закавказьем. «Кажется, что самое начало было неправильное» - пишет он - «Мы подражали прежнему старинному образу действий, как Пизарро и Кортес, мы принесли на Кавказ только оружие и страх, сделали врагов ещё более дикими и воинственными, вместо того, что бы приманить их в завоёванные равнины и к берегам рек различным выгодами, цветущими поселениями».23 Кавказский корпус поставлен на одну доску с отрядами испанских завоевателей. Но на этом сравнения с европейскими колонизаторами не заканчиваются. Розен в общих чертах рисует всю систему воздействия на умонастроения горцев. «Англичане тоже стреляют ядрами и пулями в индийцев и китайцев, но привозят к ним, кроме огнестрельного оружия, всякие орудия для выгодного труда, торговлю, образование, веру и, по доказанному опыту, верную надежду на будущее благосостояние... Россия также старалась действовать мирным средствами: она по обеим сторонам Кавказа населила иностранных колонистов, но в малом объёме».24 Розен, разделяя тезис Пестеля об экономической несостоятельности горцев, делает существенно иные выводы и выдвигает в качестве оправдательной доктрины доктрину «цивилизаторскую» - Россия призвана принести горцам благосостояние и мирное гражданское существование. И добиваться этого нужно, не навязывая Кавказу свою волю силой оружия, но, прежде всего, демонстрируя в замирённых районах экономические преуспевания.
Проект Розена, основанный на английском опыте, конечно же, утопичен. Столетиями привыкшие к повелению своими властителями индийцы и китайцы, жившие в строго иерархической системе, никак не сопоставимы с гордыми и свободолюбивыми воинами из независимых горских обществ. Да и с английским опытом не всё было в порядке - в Индии полыхало восстание сипаев. Вопрос о суде и праве был едва ли не ключевым в замиренных областях. Ростислав Фадеев, бывший в первый период после окончания войны сторонником введения судопроизводства приближенного к европейскому, в семидесятые годы на основании горчайшего опыта радикально изменил свое мнение. «Подчинение христианским гражданским законам, - писал он в «Записке об управлении азиатскими окраинами»,- равняется для туземца насилованию на каждом шагу его веры, связанной самыми мелочными обычаями жизни».25
Об этом же говорил и А.С. Грибоедов: « Не навязывайте здешнему народу не соответствующих его нравам и обычаям законов, которых никто не понимает и не принимает. Дайте народу им же самим избранных судей, которым он доверяет. Если возможно, то не вмешивайтесь в его внутреннее управление, пусть в органах управления и в суде присутствуют депутаты, назначенные правительством, а в остальном не прибегайте ни к какому насилию». 26 Вообще, невнимание к особенностям психологии, общественного устройства горских народов, нежелание представителей русской администрации вникать во внутренние проблемы неоднократно упоминается участниками и исследователями Кавказской войны в качестве одного из факторов повлиявших, как на причины, длительность, так и на ожесточенный характер борьбы. Генерал русской армии, горец по происхождению Муса-паша Кундухов считает главной причиной жестокой двадцатипятилетней борьбы «невнимание Николая I к справедливым просьбам всех мирных горцев, которым он на место страха внушил сознание унизительности их положения и сильную к себе вражду». Подобная ситуация, когда «является новый начальник, который на зная и не вникая в сущность дела, без всякого рассуждения изменяет бывшую систему, не к лучшему, а к худшему»27, была частым явлением и естественно не способствовала стабилизации обстановки.
О том, что происходило на Кавказе при приемниках Ермолова писал Зиссерман, знавший Кавказскую войну на собственном опыте: «С нашей стороны не было установлено системы действий, не было одного общего плана, которым в главных чертах обязаны были руководствоваться все отдельные начальствующие лица на Кавказе; Мало того, не было даже осознана цель, к которой следовало стремиться, и способы ее достижения. Все зависело от случайностей, от условий данной минуты, от характера взглядов не только главнокомандующего, но и разных подчиненных генералов штабе -офицеров.... Одни думали, что наша задача - окружить себя хорошими кордонами и не допускать горцев делать набеги; другие, что нужно жить с ними в добрых дружественных отношениях, заводить торговлю, приучать к роскоши и удобствам; третьи, что, что следует не оставлять их в покое и постоянно вторгаться к ним, жечь, грабить, уничтожать посевы; другие настаивали на необходимости пройти вдруг в разных направлениях, все горы с огнем и мечем, проложить 2-3 дороги и положить конец непокорству».28 И если подобная ситуация сложилась непосредственно на месте событий, то что и говорить о том, что в «Петербурге, незнание Кавказа доходило до смешного»29. Филипсон писал, что «В Петербурге и не подозревали, что мы имеем здесь дело с полумиллионным горным населением, никогда не знавшим над собою власти, храбрым, воинственным и которое, в своих горных заросших лесом трущобах, на каждом шагу имеет сильные, природные крепости. Там еще думали, что черкесы не более как возмутившиеся русские подданные, уступленные России их законным повелителем султаном по Адрианопольскому трактату»30.
Над поиском выхода из российско-кавказского конфликта размышляли не только военные профессионалы. Вскоре после пленения Шамиля - осенью 1859 года - Добролюбов Н.А. опубликовал статью «О значении наших последних подвигов на Кавказе». На всем обширном пространстве статьи Добролюбов ни разу не усомнился в самой необходимости и целесообразности завоевания. Но, подробно очертив основные этапы войны, он проанализировал главные, по его мнению, причины ожесточенного столкновения горцев - грубость некомпетентность и невежество русской администрации, совершенно не учитывавшей особенности миропредставления, обычаев и верований кавказских племен. Оценил он и суть конфликта между великим имамом и охладевшими к нему в середине 1850-х горцами: «Управление Шамиля оказалось тяжело для племен, не привыкших к повиновению, а выгод от этого управления они не находили. Напротив, они видели, что жизнь мирных селений. Находящихся под покровительством русских, гораздо спокойнее и стабильнее. Следовательно, им представлялся уже выбор не между свободой и покорностью, а только между покорностью Шамилю, без обеспечения своего спокойствия и жизни, и между покорностью русским, с надеждой на мир и удобство быта. Само собой разумеется, что рано или поздно выбор их должен был склоняться на последнее». И делает логичный вывод: «Отсюда ясно, что нужно для того, что бы удержать и прочно связать с Россиею новое завоевание нужно, что бы всем горским племенам было гораздо лучше при русском управлении, нежели было при Шамиле. Из фактов, которые мы припомнили из истории Кавказа, очевидно, что не случайное появление личностей, подобных Шамилю, и даже не строгое учение мюридизма было причиною восстаний горцев против русских. Коренной причиною была ненависть к русскому господству»31. Однако последняя фраза вызывает обоснованные сомнения. Приятие горцами русского владычество означало бы крушение целого миропорядка, который горцы считали единственно возможным. Несмотря на без малого полтораста лет существования в контексте российской государственности, адаптации к этой государственности и системе ценностей так и не произошло. Не смотря на это, Добролюбов возлагает все надежды на умное администрирование: «Когда русское управление сделает то, что для горцев не будет привлекательною перемена его на какое-нибудь другое, - тогда только спокойствие на Кавказе и его связь с Россией будут вполне обеспечены».32 Добролюбов игнорировал тот факт, что русская администрация за все полтора века своего присутствия не выработала форм, приемлемых для горского сознания. Он, так же как и А. Розен признавал цивилизаторскую миссию России на Кавказе, считая необходимым, «внушать диким племенам истинные начала образованности и гражданского быта».
Но в данном случае принципиальны два момента. Во-первых, если такой непримиримый оппозиционер по отношению к самодержавному государству, как Добролюбов, признавал законность и неизбежность завоевания Кавказа, это значит, что в общественном сознании сам по себе факт завоевания сомнений не вызывал. И, во-вторых, его вера в принципиальную возможность окончательного и тотального замирения горских племен. Добролюбов, безусловно, выражал мнение демократического круга «Современника», а соответственно и достаточно широкого демократически настроенного круга его читателей.
Характерной чертой выше представленных убеждений Пестеля, Лунина, Розена Добролюбова и других, была уверенность, не допускающая сомнения в целесообразности Кавказской войны, не смотря на все ее издержки. Каждый из них подписался бы под конечным выводом Розена: «Потомство соберет плоды с земли, орошенной кровью храбрых, и с лихвою возвратит себе несметные суммы, издержанные предками на это завоевание».33
Недостаточность и психологическая неубедительность цивилизаторской и экономической оправдательных доктрин стали, очевидно, ясны в период фатальных неудач русской армии на Кавказе. В середине сороковых годов, скорее всего после катастрофической Даргинской экспедиции 1845 года, ветеран Кавказской войны адмирал Серебряков писал: «Силою самих обстоятельств мы увлечены за Кавказ; мы покоряем Дербент, Баку, Ганжу и спасаем Грузию, порабощенную игу изуверов, а с этим вместе последнее слабое христианство в Азии, доблестно боровшееся несколько веков с могуществом мусульманским».34 «Сила обстоятельств» здесь - это необходимость защитить Грузию, ставшую частью империи. И мотив спасения христианства далеко не случайно снова всплывает как определяющий. За четыре десятилетия выработать действенную идеологию этой изнурительной войны, кроме той, с которой все начиналось, - не удалось.
В 1860 году Ростислав Фадеев, выпустил книгу «Шестьдесят лет Кавказской войны». Во вступлении Фадеев писал: «Наше общество в массе не осознавало даже цели, для которой государство так настойчиво с такими пожертвованиями добивалось покорения гор...» Это очень значимая фраза. Через 60 лет после официального начала войны, впервые публично ставится вопрос об истинной, а не формально-официозной цели этого колоссального государственного усилия. «Страны, составляющие Кавказское наместничество, богатые природою, поставленные в удивительном географическом положении для высокого развития в будущем, все-таки, с чисто экономической точки зрения независимо от других соображений не могли вознаградить понесенных для обладания ими жертв. На Кавказе решался вопрос не экономический, или, даже если отчасти экономический, то не заключенный в пределах этой страны. Понятно, что для большинства общества этот вопрос, необъяснимый прямой перспективой дела, оставался темным». (Р.А. Фадеев Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис. I860, стр.2).35 Когда Фадеев утверждал, что «На Кавказе решался вопрос не экономический», то есть дохода Россия ожидать не могла, то он понимал, что говорил, ибо прекрасно знал финансовую сторону войны и управления покоренными территориями и позже составлял официальные записки для наместника с подробной росписью расходов.
Уже в наше время в самой фундаментальной работе на интересующую нас тему сказано совершенно категорически: «С отличие от Закавказья и Предзакавказья, Большой Кавказ не представлял для России особого экономического интереса». 36 Но в 30-е годы, когда турецкая и персидская угрозы были сняты двумя победоносными войнами, когда ограниченную задачу обеспечения коммуникации с Закавказьем можно было решить, не завоевывая всю Чечню и весь Дагестан, когда у Кавказского корпуса хватало и сил и средств, что бы обеспечить относительную безопасность русских поселений на линиях от набегов, гигантские жертвы людьми и деньгами для полной победы над Шамилем, с точки зрения прагматической, казались отнюдь неоправданными. Была некая психологическая данность - Кавказ должен быть покорен, и войти как обычная административная единица в состав империи. В чем же состояла причина столь однозначной позиции? 26 Сентября 1846 года у Николая I состоялся разговор с доверенным человеком нового кавказского наместника М.С. Воронцова. Год назад русские войска были фактически разгромлены Шамилем во время кровавой Даргинской экспедиции. Ситуация на Кавказе была кризисной, но император заявил: «Слушай меня и помни хорошо то, что я буду говорить. Не судите о Кавказском крае, как об отдельном царстве. Я желаю и должен стараться сливать его всеми возможными мерами с Россиею, что бы все составляло единое целое».37 Это был ответ Воронцову пытавшемуся дополнить военные усилия навой экономической политикой предоставляющей Кавказу и Закавказью право свободной торговли. Но идея, сформулированная императором, имела значение куда более широкое. Речь шла о полной интеграции Кавказа в состав империи - без оговорок и послаблений. Без всякого учета его резких особенностей. Подобная установка вела неизбежно к войне до победного конца. Непоколебимые позиции самодержавия, в этом вопросе, сталкиваясь с органическим неприятием подобного варианта решения горским сознанием, вели в конечном итоге к затяжной трудно разрешимой трагедии, отголоски которой стали живой раной и нашего времени. Фадеев пытается выстроить историческую логику процесса, приведшего к войне до победного конца. «Начало Кавказской войны совпадает с первым годом текущего столетия, когда Россия приняла под свою власть Грузинское царство. Это событие определило новые отношения государства к полудиким племенам Кавказа; из заграничных и чуждых нам они сделались внутренними и Россия необходимо должна была подчинить их своей власти; Кавказ потребовал больших жертв, но чего бы он ни стоил, ни один русский не имеет права на это жаловаться, потому, что занятие Закавказских областей не было ни случайным, ни произвольным событием русской истории. Оно подготовлялось веками, было вызвано великими государственными потребностями и исполнилось само собой...» 38 Это «само собой» - утверждение исторической неизбежности и органичности происходящего. Ощущение неизбежности происходящего было характерно и для непосредственных участников войны. На Кавказе, где «так сильна вера в предопределение, невозможно отрешиться от известной доли фатализма»39, писал генерал адъютант Бенкендорф. Это уверенность в предопределенности охватывала все, от случайной смерти до событий военно-политических. Н.А. Волконский падение Шамиля относит к «непогрешимым законам природы, никогда не изменяющим себе»; «Против законов судьбы не пойдешь...И если не мы русские, то, во всяком случае, его же собственны народы, раньше или позже приготовили бы его падение».40 Но главная идея Фадеева иная. Речь идет о том, что при явном ослаблении Турции и Персии, спор за их наследство «станет спором европейским и будет обращен против нас, потому, что все вопросы о западном влиянии или господстве в Азии не терпят раздела; соперник там смертелен для европейского могущества. Чье бы влияние и господство не простиралось на эти страны (между которыми были земли без хозяина, как, например, весь Кавказский перешеек), оно стало бы во враждебное отношение к нам».41 Здесь речь идет о своеобразной геополитической установке, трактующей Запад как неизбежного противника. Но Кавказ по Фадееву оказывается так же форпостом, передовым рубежом возможного столкновения с воинствующим исламизмом. «Мусульманство прокатилось по земле огненным потоком и теперь еще производит страшные пожары в местах. Куда он проникает внове, чему примером служит Кавказ. Занятие этого края было первою государственною необходимостью. Но покуда русское племя доросло до подошвы Кавказа, все изменилось в горах. В Петербурге и не подозревали, что мы имеем здесь дело с полумиллионным горным населением. Никогда не знавшим над собою власти, храбрым, воинственным и которое, в своих горных заросших лесом трущобах, на каждом шагу имеет сильные, природные крепости. Там еще думали. Что черкесы не более как возмутившиеся русские подданные, уступленные России их законным повелителем султаном по Адрианопольскому трактату. Вместо прежних христианских племен мы встретили в горах самое неистовое воплощение мусульманского фанатизма».42 Кавказ, таким образом, оказывается плацдармом, на котором Россия превентивно ограждает себя от экспансии Запада и в то же время ликвидирует опаснейший очаг воинствующего исламизма.
Но этот тезис о причинах и значении Кавказской войны неоднозначен. В. О. Ключевский отмечал, что «такой сложный ряд явлений», как завоевание Кавказа «вызвало завещание Георгия XII грузинского», который, умирая, завещал Грузию и «русскому императору в 1801 году волей-неволей пришлось принять завещание». А когда русские войска «стали на каспийском и черноморском берегах Закавказья, они должны были, естественно, обеспечить свой тыл завоеванием горских племен». Не отрицая собственных заявлений о «колонизации», как основном процессе русской истории Ключевский пояснял, что: «Ведя эту борьбу, русское правительство совершенно искренне и неоднократно признавалось, что не чувствует никакой потребности и никакой пользы от дальнейшего расширения своих юго-восточных границ». 43
В середине сороковых годов XIX появлялись созвучные высказывания о том, что «Кавказ был для Петербурга докучливым бременем, а для военных местом ссылки».44 Дондуков-Корсаков отмечает, что на Кавказе сложилась «особая жизнь, особый быт», «оторванных от общей русской семьи тружеников». И лишь «некоторые отдельные события, как, например, взятие в 1831 году бароном Розеном аула Гимры и смерть первого дагестанского имама Кази-муллы, временно обратили внимание на Кавказ», 45 а «все подвиги самоотвержения, все лишения, которым подвергались кавказские войска, неизвестны были России».46 Кавказская война XIX века рождала массу противоречивых мнений о ее сущности. В России первой половины XIX века сложился своеобразный «кавказский миф».47 Уже сам состав русского войска на Кавказе был довольно пестрым. Кроме служилых солдат и кадрового офицерства тут находились штрафники и преступники, а так же политические ссыльные (прежде всего декабристы). Были искатели романтических приключений, охотники за чинами и наградами, всевозможные авантюристы. Наряду с неоднократными свидетельствами о том, что русское общество мало знало о происходящем на Кавказе, Добролюбов начинает свою статью 1857 года словами: «Восторженные разговоры и статьи о Кавказе и Шамиле были в последнее время так часты, что, наконец, успели надоесть всем. Не бываете ли вы в каком-нибудь доме, в котором не говорят о Шамиле? Очень интересно было бы познакомиться. Разумеется, такого дома не оказалось и не могло оказаться в целой столице, а может быть - и во всей России. Национальное чувство было слишком сильно затронуто новою славою русского оружия и должно было вылиться наружу в громких, восторженных и продолжительных толках...»
Разумеется, Кавказ был обсуждаемой и насущной темой в конце 50-х годов. Но этот интерес и это знание было спровоцировано своеобразной модой и естественным патриотическим всплеском гордости за русское воинство, одержавшее очередную победу. Мода эта имела, вероятно, природу близкую той, которая существовала в Европе, особенно во Франции, где «мода на Шамиля» и кавказскую экзотику все сильнее подхлестывалась публицистикой. Помимо книг и статей о «пророке-правителе», «льве Дагестана» там появлялись стихи, пьесы и многочисленные изображения Шамиля, может быть и не имевшие никакого сходства ни с Шамилем, ни с горцем вообще, Кавказу, и в том же году в Париже увидела свет его книга «Кавказ». Она подводила итог романтически-политическому всплеску интереса Запада к Шамилю и Кавказу. В 1854-1856 году вышло, по меньшей мере, 28 книг на это тему, затем интерес резко упал.48 В России происходило по все вероятности подобное же явление. По окончании войны Кавказской войны взгляда русского общества большей частью были прикованы к судьбе бывшего имама и его жизни. Москва и Петербург приветствовали Шамиля с восторженным любопытством как легендарную личность. На время Шамиль стал первой достопримечательностью обеих столиц.
На основании вышеизложенных материалов следует предположить, что в русском обществе XIX сложилась определенная система представлений о Кавказской войне, роли и значении в ней России. Принципиально важными были, так называемые идеологические установки русского общества, определяющие основные цели и принципы действия русских войск в этой войне. Здесь следует выделить несколько основных позиций. Во-первых, это система прагматического обоснования насущной необходимости ведения этой войны с точки зрения государственной пользы. Эти установки стали основой государственной позиции и содержали следующие основные позиции: во-первых, необходимость защититься от набегов, во-вторых, необходимость контролировать постоянный очаг нестабильности на южной границе; в-третьих, необходимость обеспечить безопасность южного направления торговли России; и, наконец, в-четвертых, необходимость рационально использовать природные условия, которые недостаточно рационально используются «полудикими народами» Кавказа.
К этому отдельными исследователями (См: позиция Р.А. Фадеева), добавлялась идея о том, что Россия на Кавказе решала задачи геополитического характера: стратегического ограждения себя от экспансии запада и ликвидации опасного для империи очага воинствующего исламизма. Во-вторых, одной из основных общественных установок являлось представление о цивилизаторской миссии России на Кавказе. Основой данной идеи было изначальное твердое убеждение в том, что горские племена находятся на низком уровне развития, отсюда следует лингвистический ряд, определяющий характер горских племен: «варварские», «дикие», «туземные», «примитивные», «одичалые». Этот «неразвитый и дикий народ»49 со стороны приобщенного к европейской культуре российского общества воспринимался как объект для просвещения. Присоединение Кавказского края к России воспринималось большинством как безусловное благо для горских народов. Хотя при ближайшем рассмотрении, как отмечал К.К. Бенкендорф, происходило «обычное явление порчи нравов при соприкосновении цивилизации с первобытными нравами населения». Параллельно этой установке существовала идея, религиозно-просветительская, выдвигавшая на первый план, в качестве причины повлиявшей на начало войны - защиту единоверного населения Грузии и в качестве цели, согласно христианскому долгу - спасение, благоустройство и просвещение народов. И, наконец, главной и определяющей установкой существовавшей в сознании абсолютного большинства русского общества стало безусловное убеждение в том, что Кавказ должен и будет покорен. И шестидесятилетняя продолжительность войны не лишнее этому подтверждение. Реально ни один из рассмотренных в ходе написания работы документов не давал основания усомниться в том, что автор верит в целесообразность ведения этой войны. Следует, однако, учитывать низкий уровень информированности общества о событиях происходящих на Кавказе, показанный здесь ранее. Подобная скидка дает ряду авторов говорить о том, что в российском обществе сложился своеобразный «кавказский миф».50 С этим можно частично согласиться, - в русском общественном сознании сложилась специфическая система восприятия Кавказской войны, представляющая собой синтез указанных выше идей. Фактором повлиявшим на возникновение этой системы взглядов, и одновременно ее выражением стали произведения классиков русской литературы XIX века.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»