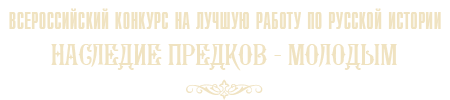Фролова А.А.
Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа – народные перевороты. Этим объясняется обычное явление – усиление работы политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений», - заметил великий русский историк – В. О. Ключевский [9, 14].
XX век в истории России, безусловно, связан с общественными потрясениями. В начале XX столетия в России наступила эпоха социальных революций. В 1917 году Российское государство, отвергнув веками существовавший монархический строй, коренным образом изменило вектор своего исторического развития. В этом смысле, 1917 год стал знаменательным в судьбе России. Россия на короткое время, по воспоминаниям современников событий, стала самой свободной страной в мире. Но демократическая альтернатива, в течение восьми месяцев 1917 года, успевшая трансформироваться из либерально-демократической в радикально-демократическую, так и не осуществилась. Почему так случилось? Этот вопрос, как в среде современников событий, так и ныне, вызывает большой интерес и волнение.
Более того, представляется, что реальности и условия конца XX в. в развитии России несколько сочетаются с событиями, которыми был отмечен весь ход революционного развития страны в начале XX века. В обоих случаях результат корректен для сравнительного анализа: крушение прежней государственности, прежних институтов власти, рождение новой политической системы, что всегда приводит к усилению конфликтности общественного сознания в условиях распада традиционных ценностей, сопровождается мучительными и непредсказуемыми издержками для основной массы населения.
В такие моменты особенно остро ощущается нехватка новых идей, новых подходов в решении назревших проблем развития общества и государства. И, в то же время, что ни странно, возрастает интерес к интеллектуальному наследию и политическому опыту наиболее просвещенных представителей предшествующего поколения. Ведь когда происходят какие-либо повороты в жизни людей – мы начинаем испытывать нужду в тех, кто мог бы научить нас на собственных удачах или ошибках. Непременным условием проникновения в наследие предков и их прошлое является всесторонность и многогранность, что очень трудно сделать без свидетельства самих участников событий. Именно через опыт и идеи современников давно прошедшего передается жизнь подлинная, человеческая суть, без чего история становится сухой, чуждой людям.
Проблемы исторического значения и смысла русской революции занимали определяющее место в идейной жизни современников этих событий, желающих дать свою оценку происходящему с Россией. Это объясняется в первую очередь тем, какое влияние оказала революция на их судьбу и склонностью отождествлять постигшую Россию катастрофу со своей личной. Вопрос о смысле русской революции, несмотря на всю кажущуюся его теоретичность и отвлеченность, являлся в то время основополагающим вопросом практики, ибо ответ на него предопределял позицию каждого, его политическое кредо и его отношение к политическим процессам, происходящим в России.
Определенная часть современников решительно отвергали оптимистическую эсхатологию относительно возможностей и перспектив русской революции и склонны были видеть в ней только трагедию. С их точки зрения, революция в России была безусловной катастрофой, приведшей к полному развалу и деградации организованную жизнь страны. В этом смысле русскую революцию нередко называли смутой, проводя аналогию между тем, что произошло в России в 1917 году и в последующие годы, с этими событиями в ее истории, которые известны в истории под названием Смутного времени. На этой точке зрения стояло большинство авторов правой ориентации и почти все, кто участвовал или был связан с белым движением. «Очерками русской смуты» назвал свои воспоминания генерал Деникин А.И [5].
С некоторыми оговорками эту позицию разделяли И.А. Ильин, П.Б. Струве, С.Л. Франк и др. Так, И.А. Ильин не принял революции. 1917 г., считая, что она разрушила российскую государственность. По его мнению, русская революция была «катастрофой и безумием», не только в истории России, но и в истории всего человечества…» [7, 287]. Как считал философ «революция есть катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое и национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута бледнеет и меркнет» [7, 286].
По мнению С.Л. Франка, ставить вопрос: есть ли русская революция настоящая «революция» или она есть лишь великая «смута»? – вообще нельзя. Такая постановка вопроса социологически неверна и исторически неоправданна, ибо всякая революция, по мысли философа, «есть смута», как и «всякая смута есть революция». «Как бы ни были глубоки, настоятельны, глубоки и органичны потребности общества, не удовлетворяемые «старым порядком», - писал он, - революция никогда и нигде не есть целесообразный, осмысленный способ их удовлетворения». Революция, по мнению С.Л. Франка, это всегда болезнь общества и, как всякая болезнь, «само по себе не приводящая к удовлетворению органических потребностей, к чему-то «лучшему». Цена же революции всегда одна: «в конце всякой революции общество, в результате неисчислимых бедствий и страданий анархии, оказывается в худшем положении, чем до нее…». Философ сравнивает революцию с попыткой, «с помощью взрыва исправить недостатки паровой машины» или, с помощью землетрясения «установить целесообразную распланировку улиц города» [19, 208].
В этом же смысле, по мнению автора, русская революция является исторической бессмыслицей и поэтому преступлением. Ибо то, что совершилось в результате революции (гибель, например, дворянского землевладения и многое другое), произошло бы «несколько позднее без всякой революции, мирным и естественным путем» и поэтому при условиях, неизмеримо более благоприятных, чем в обстановке революционной ломки и ускорения. Купив это ускорение ценою огромных жертв и разрушений, революция, заключает философ, достигла лишь того, что страна «в других отношениях», оказалась отброшенной далеко назад [19, 211].
Применительно к русской революции 1917 года П.Б. Струве ставил вопрос иначе: «Что это, революция или реакция?» - и отвечал – «Понятия «революция» и «реакция» сами по себе лишены содержания и смысла. Но если мы условимся понимать под революцией переворот, поднимающий жизнь на высшую ступень, ее обогащающий и совершенствующий, а под реакцией – изменение, тянущее народ и государство к низу, ведущее и к хозяйственному оскудению и к культурному упадку, то ясно одно: Большевистская коммунистическая революция открыла в России невиданную в истории экономическую и культурную реакцию»[16, 224]. Согласно мнению П.Б. Струве, история назовет время пребывания большевиков у власти «эпохой коммунистической реакции против национальной России» [16, 224].
Несколько иначе склонны были оценивать русскую революцию Н.А. Бердяев и Ф.А. Степун. Так, как противник любого «зла мира» Н.А. Бердяев понимал и принимал любую освободительную идею, но не насильственную, не революционную. «Революция, - писал он, - всегда означает, что не было положительных творческих духовных сил, улучшающих и возрождающих жизнь, осуществляющих больше правды. Революция есть кара, посылаемая людям за то, что они не обнаружили творческой духовной силы, не творили лучшей жизни… Желать можно лишь положительного творчества, лучшей жизни…, лишь духовно-социального обновления и возрождения…, революция есть болезнь, катастрофа, прохождение через смерть» [3, 183].
Н.А. Бердяев выступал против такой власти, которая противостоит народу и отстаивает концепцию «служебного» характера государственных институтов, что характерно для тоталитарного государства. Он высказывался за незыблемость личных свобод, защищал принципы правового государства. Марксистское учение о коммунизме, по мнению Н.А. Бердяева, является «демоническим», поскольку путь к будущему, по марксизму, - это путь насилия, несвободы, безраздельного приоритета социальных форм перед личностью, принесение целых поколений в жертву будущему обществу. «Коммунизм в этой форме, в какой он явился в России, есть крайний этатизм. Это есть явление чудовища Левиафана, который на все накладывает свои лапы. Советское государство… есть единственное в мире последовательное, до конца доведенное тоталитарное государство» [2, 120]. Но в то же самое время, Н.А. Бердяев подчеркивал, что «это единственная власть, выполняющая хоть как-нибудь защиту России от грозящих ей опасностей» [2, 151-152].
Ф.А. Степун в своей статье «Мысли о России» признавал некоторые достижения русской революции: по его словам «Утверждать, что большевики всегда творят благо, было бы слишком большим оптимизмом, но не видеть, что они его иногда творят, - зрячему человеку все же нельзя. Ясно, что видеть это совершенно не значит верить в большевиков, но значит верить в свет, в добро, в смысл истории, в Россию» [13, 206]. По мнению С.А. Степуна, русская революция в России была по своей сути «стихией русской души, которая в 1917 году откликнулась на коммунистическую проповедь Ленина, и круг тех явлений, который был порожден этим откликом». Ф.А. Степун сходится с Н.А.Бердяевым в том, что Ленин смог уловить своеобразие происходивших в России событий: «Его непобедимость заключалась не в последнюю очередь в том, что он творил свое дело не столько в интересах народа, сколько в духе нарда, не столько для и ради народа, сколько вместе с народом, то есть созвучно с народным пониманием и ощущением революции как стихии, как бунта… Для всей психологии Ленина, - как считает Ф.А. Степун, - характернее всего то, что он, в сущности, не видел цели революции, а видел всегда только революцию как цель» [13, 231]. А этого мыслитель принять не мог, именно в этом он видел отрицательные стороны русской революции 1917 года.
В большинстве своем представители русской общественно-политической мысли, свидетели революционных событий в России отвергали идею от абсолютной ценности революции и противопоставляли ей мысль о самоценности реформ, мирного эволюционного развития России. Для большинства из них уже тогда было ясно, а опыт 1917 года укрепил эти убеждения, что даже неудавшаяся реформа лучше удавшейся революции и что революционный беспорядок всегда лучше самого плохого порядка. И именно на пути социальных реформ, а не революций виделся им будущий прогресс России, ее процветание. И это понятно, ибо в отличие от революции социальные реформы всегда ставят конкретные, а не мифические цели, они созидательны, конструктивны, не разрушают, а создают новые ценности. Напротив, взгляд на революцию как на необходимое и, в конечном счете, прогрессивное явление всегда таит в себе серьезную опасность, ибо формирует определенное мировоззрение и мораль, суть которых сводится к известной формуле: цель оправдывает средства. Ради революции можно пойти на жертвы, это оправдано и ненаказуемо. Революционная идеология ведет часто к вседозволенности постольку, поскольку «передовому» классу и его авангарду заранее выдается индульгенция на насилие над другими классами во имя «светлого будущего». Она в основе своей тоталитарная, ибо в качестве универсального средства предлагает насильственное преобразование мира, объявляет общечеловеческую мораль классовой и преходящей.
Именно эту сторону русской революции, и ее авторитарный дух и стремление «разрушить все старое», не могла и не принимала передовая русская интеллигенция, воспитанная на христианских традициях и морали. По мысли В.А. Маклакова, революция редко сочетается с понятием свободы и права, ибо ее задача – «выявление воли народа, которая, почувствовав себя суверенной, не знает ничего выше себя и не уважает ни свободы, ни прав меньшинства, или отдельных людей» [24, 153]. Эту традицию, здорового консерватизма, большинство представителей русской общественно-политической мысли, чьи взгляды после русской революции 1917 года находили все больше последователей, продолжало и в эмиграции, решительно выступая против идеализации революции вообще и российской революции 1917 года в частности.
Однако, были и такие современники событий, которые не только готовили и ждали эту революцию, как спасительницу от всех бед, но и сами являлись активными участниками революционного процесса в России 1917 года. Безусловно, их взгляд на свершившиеся события был несколько иным.
Деятели радикальных партий признавали революцию в России исторически неизбежной, в полной мере реализовавшей созревшие в глубине общественного сознания идеалы и потребности. Данной позиции в уже названных работах придерживались Н.Н. Суханов, А.Г. Шляпников, Л.Д. Троцкий [17, 18]. По мнению Л.Д. Троцкого, «Февральская революция, если брать ее как самостоятельную революцию, была буржуазной. Но как буржуазная революция она явилась слишком поздно и не заключала в себе никакой устойчивости… Наступивший после Февральского переворота период можно было, рассматривать двояко: либо как период закрепления, развития или завершения «демократической» революции, либо как период подготовки пролетарской революции» [18, 250]. Давая оценку событиям 1917 года в России, представители партии большевиков ссылались на то, что «мелкобуржуазная демократия» по своей классовой сути не могла пойти на компромисс с большевиками и ее прогрессивность была полностью исчерпана на этапе Февральской революции. Итог революции 1917 года они видели в закономерной победе диктатуры над демократией, после чего страна вступила в период «триумфального шествия» Советской власти. Данная позиция стала доминирующей в советской историографии на протяжении десятков лет.
Российские меньшевики, как, впрочем, и большевики, были единодушны во мнении, что в февральские дни Россия вступила в стадию буржуазной революции. Представители партии меньшевиков также говорили о переходном характере этих событий. Даже требования их были сформулированы, - как отмечал Н.Н. Суханов, - в духе программы-минимум, реализация, которой Временным правительством рассматривалась как условие его поддержки «постольку поскольку»: провозглашение полных политических свобод, амнистия и подготовка созыва Учредительного собрания. Предполагалось, что другие требования, в том числе – немедленное объявление республики, новое рабочее законодательство, передача земли и т.д., будут осуществляться по мере благополучного завершения переворота и победы революции, в силу чего уже в «недалеком будущем» Временное правительство должно будет оказаться действительно «временным» [17, 134-135], а победа демократии полновесной.
Однако, были и идейные расхождения в понимании сути русской революции не только между большевиками и меньшевиками, но и в самой среде меньшевиков, и, в основном, они сводились к пониманию ими идеологических причин происходившего в России, но меньшевики были единодушны в одном: социализм в России они мыслили только «на фоне социалистической Европы и при ее помощи» [12, 131]. В силу этого многие меньшевики видели значение русской революции в решении общенациональных, а не социалистических задач в силу их нереальности. Так, например, Г.В. Плеханов считал, что в России на тот момент не было «объективных условий, нужных для углубления революции в смысле замены капиталистического строя социалистическим» [12, 14-15]. Когда же революция «завершилась» большинству представителей партии меньшевиков ничего больше не оставалось, как признать «завоевание Октября». Так, Н.Н. Суханов, отрицая «социалистический характер Октябрьской революции», в своих мемуарах выступал против оценки «Октября как заговора большевиков» [17, 224]. Однако, Г.В. Плеханов, занимавший по общему признанию, крайне правую позицию партии меньшевиков, отнесся к «большевистскому варианту революции» крайне отрицательно и не видел за ней будущего уже тогда.
По мнению эсеровских теоретиков, февральская революция не являлась ни социалистической, ни буржуазной. На III съезде партии она была названа народно-трудовой. Как отмечалось в выступлениях многих делегатов, февральская революция была совершена революционно-демократическими, либерально-демократическими и либерально-буржуазными кругами, т.е. она произошла под знаменем сплочения большинства российского общества против скомпрометировавшего себя царского режима. Лидеры партии социал-революционеров также признавали лишь «предварительный» характер политической системы России после свержения самодержавия. По их мнению, срок ее существования исчерпывался созывом Учредительного собрания, которое должно было законодательно закрепить новое демократическое устройство. «Наша точка зрения была такова, - писал в своих мемуарах В.М. Чернов, - пока основой государственного строя в России не стало народовластие на базе всеобщего избирательного права, преступно разобщать, преступно оставлять в стороне хотя бы одну из тех политических сил, для которых народовластие – необходимое предварительное условие и их нормальной жизнедеятельности. Чтобы осуществить это условие, все они должны были стать в единый фронт» [28, 131]. Его наличие должно было также предотвратить сползание страны в гражданскую войну и обеспечить успешность борьбы с грозной опасностью «всероссийской разрухи» - борьбы, необходимой для укрепления новой революционной России, «этой первой цитадели «третьей силы» в современной Европе» [14, 131-132]. Определяя, таким образом, политический строй России после Февраля 1917 года, как «носящий «предварительный» характер, социал-революционеры считали, что сформировавшийся в подобной ситуации, он должен был быть больше демократически-трудовым, нежели демократически-буржуазным. Русская буржуазия в революции, как считали эсеровские идеологи, заняла позицию «кукушки, положившей свое яйцо в чужое гнездо» [1, 15]. Именно поэтому, по мнению социал-революционеров, революция была еще незавершенна, а лишь начал формироваться переходный период между буржуазным укладом и будущим социалистическим устройством. Однако после происшедшей уже революции эсеры видели эту трансформацию в эволюционном варианте развития, но никак не в «максималистской социальной революции».
Таким образом, большинство представителей и партий меньшевиков и партий социалистов-революционеров не признавали незавершенность революционного процесса в России в 1917 году на «достижениях» февральской революции и считали существовавший на тот момент в России строй «переходным» к социалистическому. Тем самым, они, сами того не желая, подрывали авторитет существующей власти и «прокладывали» большевикам путь к победе. Именно поэтому практический путь революции, которую они так желали, оказался далеко не таким, как его представляли многие современники и участники революционного процесса в России. В итоге это вылилось в несоответствие образа революции ее конкретному воплощению. В.М. Чернов объяснял это, прежде всего, «молодостью» российской демократии, которая «из прошлого» вынесла больше умения бороться, свергать и разрушать, чем созидать и строить, и отличалась слабой ответственностью, опасаясь упреков в узурпаторстве; демократия показала себя способной взять власть, но не способной пользоваться ею [28, 237].
Лидер партии кадетов – П.Н. Милюков - в своих воспоминаниях представил февраль 1917 года как «национальную и патриотическую» революцию, которую возглавили думские лидеры, пытавшиеся «установить истинно либеральный и демократический режим в России» [25, 15]. Российские либералы проглядели начало революции и первоначально отстали от стихийно разворачивавшегося движения масс. Однако, Временное правительство через провозглашение широких демократических реформ пыталось влиять на ход событий. Как отмечал А.Ф. Керенский «в поразительно короткий период времени мы смогли заложить основы не только демократического управления по полностью новой социальной системе, которая гарантировала ведущую роль в делах нации трудящимся массам и которая впервые ликвидировала все политические, социальные и этические ограничения» [23, 154]. Большинство современников событий, выделяет демократизацию советского общества, как бесспорный факт достижения русской революции, одновременно, отмечали и опасались размаха анархических тенденций, захлестнувших страну с введением демократических свобод. Зинаида Гиппиус в своих дневниках, по этому поводу, тоже писала. «… Да, Россией уже правит «митинг» со всей его митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное Временное правительство» [21, 106].
Процесс политизации российского населения, происходил, по их мнению, в условиях крайне низкой степени правой информированности, что создавало один из самых значительных препятствий к безболезненному и прочному укреплению нового строя. Разного рода «резолюции», как заметил позже один из эсеровских идеологов А.А. Минин, заменили «павший закон» [11, 30]. Морального авторитета, составляющего внутреннее содержание государственной власти, оказалось явно недостаточно для сохранения правопорядка и законопослушания в революционной России, тем более, что нормальное функционирование милиции и суда, которые должны были внушать гражданам уважение к закону, было сведено к нулю.
В такой ситуации нарастание «дискомфортного состояния», после первых месяцев революции, сопровождалось дальнейшим поиском врагов, который постепенно приобретал антибуржуазную нравственность. Мало кто из современников событий, пораженных неимоверной быстротой, с которой рухнули сознание россиян устоем старого «прочного» мира мог предположить, что спустя всего несколько месяцев они явятся свидетелями еще более головокружительного крушения «всеми признанных демократических свобод, выстраданных столетиями угнетений». Поэтому поводу, М. Вишняк в статье «Дань прошлому» заметил, что во всякой революции различимы два фаса, или лика. Один обращен к свободе: это протест диссидентов и «нонконформистов», возмущения и восстания против гнета и насилия, прорыв к новому. Другим своим ликом революция обращена в сторону насилии и подавления всего и всех несогласных с нею и с тем, что она провозгласила и утвердила. Эта революция «углубленная» или выродившаяся…» [4, 40] - эта особенность, по его мнению, была характерна для русской революции.
Февральская революция, свергнув царизм, открыла перед Россией перспективу развития по буржуазно-демократическому пути. Вместе с тем, она послужила стартовым рубежом, который поднял революционное движение на качественно иную антибуржуазную ступень. Жажда свободы и радикальных перемен овладела массами и стала причиной их быстрой радикализации. Распространение антибуржуапзных настроений, в формировании которых приняли участие самые различные, подчас конфликтующие силы, наложил отпечаток на развитие политической ситуации в стране. Согласно воспоминаний современников событий 1917 года в России, к концу лета этого года в сознании россиян завершился перелом, начавшихся в апреле-мае, связанный с окончательным падением в глазах населения авторитета власти, с перерождением революционной символики и ростом антибуржуазных настроений.
Таким образом, особенностью русской революции 1917 года стало ее своеобразное перерастание из стадии буржуазно-демократической (или народно-трудовой, как ее определила партия эсеров) в социалистическую, как прежде она была названа. Что характерно, самих участников революционного процесса в России не столько возмущал факт этого перехода (многие партии готовились к этому), сколько то, как это произошло и какие силы возглавили данный переворот. Не сумев противопоставить большевикам никакой реальной силы осенью 1917 года, большинство представителей умеренно-социалистического и либерального направлений, оценивая русскую революцию, стали придерживаться позиций, что большевики «искажают революцию» и что «завоевания революции» осуществляются в России, вопреки, а не благодаря им. Выход из этого затруднительного и изначально двойственного положения был найден в теории о «двух революциях» - благодетельной февральской и другой – злокозненной октябрьской, «кем-то и как-то навязанной». Позиция подобного сочетания «признания» и «непризнания» русской революции 1917 года продолжало отчасти сохраняться в эмиграции: особенно в либеральных кругах, представлявших эту революцию на политической арене. В большинстве своем представители социалистических партий, не принявшие большевистский вариант революции, пытавшиеся защитить социализм от «большевистских извращений», и представители либерального направления, которые «судили» революцию по совершенно иным критериям, были убеждены в конструктивном и, конечном счете, положительным значении русской революции 1917 года, для судеб России, а где-то даже и Европы.
Проблема противоречивости характера русской революции 1917 года стала предметом обсуждения и представителей русской общественно-политической мысли. По мнению С.Л. Франка, в этом заключалось «главное трагическое недоразумение русской революции, своеобразное содержание ее трагической бессмысленности». Ибо революция эта основана была на демократическом движении, на начавшемся еще с момента освобождения крестьян в стихийном процессе бытовой «демократизации», проникновении низших слоев во все области общественной, государственной, культурной жизни, процессе, внутренне руководимым «влечением крестьянства к самостоятельности и самочинности, т.е. в сущности, собственническим инстинктам» [19, 215].
Социализм, отмечал С.Л. Франк, увлек народные массы «не своим положительным идеалом, а своей силой отталкивания от старого строя». В конечном счете, революционный социализм как вы
рождение западноевропейского пролетарского движения, идейно оплодотворенного «бунтарско-религиозным эсхатологизмом - с его учением о классовой борьбе и о прыжке с ее помощью в «царство свободы» - стал адекватным выражением давнишнего исконно-русского мужицко-разночинского чувства вражды дворянству и его культуре» [19, 212]. Народные массы стремились не к социализму, а просто к дележу буржуазного богатства, и социализм имел успех потому, что своим политическими тенденциями он давал санкцию этому делению. «По существу, заключал С.Л. Франк, это была всероссийская пугачевщина начала ХХ в.» [19, 212]. По мнению философа, со стороны восприятия социализма «русская революция по своему внутреннему социально-политическому существу есть болезненный кризис острой демократизации России не больше, но и не меньше».
Ряд мыслителей уже в зарубежье (Т.Б. Струве, Г.П. Федотов, С.Л.Франк и др.) в начале 20-х гг. высказывали мнение о предпочтительности для России (в отличие от динамичной, быстро развивающейся Европы) постепенного и поэтапного приобщения различных слоев общества к государственной жизни и государственному управлению. Другой путь развития в силу культурной неразвитости масс, отсутствия у народа правового сознания, как и элементарных навыков участия в государственной власти в условиях векового существования авторитарного режима был в России, по их мысли, не только практически неосуществим, но и мог иметь непредсказуемые последствия. Необходимо было длительное и непрерывное правовое развитие общества на основе привлечения к государственной власти одних (прежде всего дворянства как единственного в России класса, пригодного к управлению)» и постепенного распространения гражданских прав и свобод на других (крестьянство), прежде чем в России устанавливались бы элементы гражданского строя, а массы населения, став, в результате глубокого проникновения в народную жизнь принципов собственности, культурными хозяйственными, научились бы уважению и к праву, и к собственности. Таким образом, оценивая историческое значение, и пытая определить характер русской революции 1917 года, современники представляли различные подходы, зачастую прямо противоположные. Во многом это объяснялось тем, что демократическая альтернатива, в течение 8 месяцев 1917 года, успевшая трансформироваться из либерально-демократической в радикально-демократическую, так и не осуществилась. Идеологи большевистской партии (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий) представляли позицию, согласно которой в русском государстве в 1917 г. отсутствовали объективные и субъективные условия для иного, чем реально осуществленного пути развития революционной ситуации в стране, что русская революция реализовала давно созревшие в глубине общественного сознания идеалы и потребности и, в этом смысле была «величайшим достижением» большевистской партии во благо российского народа. В скором времени эта позиция станет господствующей и единственной в советской историографии.
Определенная часть представителей русского общества, которые не желали принять вариант развития страны в 1917 году и покидали Родину по мере установления в ней власти большевиков, были склонны считать, что русская революция привела к полному разложению государственных основ некогда великой державы. Истоки данной позиции стоит искать в идеях, высказанных рядом деятелей российской эмиграции (прежде всего П.Б Струве, С.Л. Франка, В.А. Маклакова и др.), резко отрицательно оценивших победу революции в России и наследствия ее «свершений».
От некоторых представителей промонархической ориентации исходила версия о революции как «заговоре», причем заговоре «масонском», иными словами, свершенным узкой группой людей во имя собственных корпоративных интересах. Зачастую эта идея имела форму тезиса о том, что «антирусская» революция 1917 года имела 2 этапа: либеральный (масонский) и большевистский и, безусловно, стала катастрофой в судьбе России.
Значительная часть общественных и политических деятелей, которые сами являлись непосредственными участниками революционных последствий России в 1917 году, продолжая констатировать положительное значение русской революции, стали выделять исторически закономерную Февральскую революцию и «большевистский заговор» против зарождавшихся демократических основ нового государственного строя. Представители данной позиции были склонны критиковать большевистский вариант революции, но не саму революционно-социалистическую идеологию.
По мнению большинства исследователей, революция в России была подготовлена всем ходом русской истории и имела закономерный характер. В начале ХХ в. Россия представляла собой клубок неповторимых и многочисленных противоречий. Почти не было шансов на разрешение их мирным, эволюционным путем. На этой точке зрения сходились представители практически всех течений русской общественно-политической мысли, несмотря на их расхождения в мировоззрении. Однако, это не означало, что основная часть русского интеллектуального общества разделяла распространенное в некоторых ее кругах (и ставшее господствующим в советской историографии) мнение о якобы фатальной неизбежности «революционного крушения» России.
Революция, по мнению большей части современников, явилась результатом сохранявшегося и осложненного многими внешними факторами несоответствия между содержанием бурно развивающейся жизни и давившей ее политической формой. И хотя современники революционной России указывали на те конкретные шаги в области гражданского раскрепощения и эволюции самодержавия в направлении буржуазной монархии, которые реально наметились в России в начале ХХ в., они не могли не видеть все сложности и противоречивости экономического и политического развития страны, приведшей, в конечном счете, к общенациональной катастрофе. Слишком упорно пытался традиционный режим отстоять незыблемость своих устоев, слишком поздно и непоследовательно провела власть политические и социальные реформы. В итоге, когда разразилась революция, то оказалось, что старый режим уже не вызывает ни страха, ни уважения, никто не стал на его защиту; свобода пришла «слишком поздно и слишком разом», затопив своим запоздалым приходом государство и разрушив все социальные рамки.
В этой связи заслуживает внимания постановка вопросов о предпочтительности для России своевременного, но в то же время разумного и постепенного, с точки зрения будущих судеб страны, политического и социального раскрепощения. В России с учетом своеобразия ее исторического пути, особенностей менталитета и общего уровня политической и правовой культуры масс другой путь был, но мысли многих общественно-политических деятелей, практически неосуществим.
Слабостью отличалась интеллектуальная связь между социальными верхами и низами русского общества. Бесспорно, существует единство национального способа мыслить и чувствовать, характерно для всех социальных слоев, - российский менталитет. Но история развела верхи и низы и помешала их непрерывному взаимодействию. Дворянская интеллигенция из-за своего социального происхождения, воспитания, правительственной политики была отреза от общения с народом. В дореволюционной Российской империи сложился социокультурный раскол. Следствием такого отчуждения стал интеллектуальный максимализм российской интеллигенции, оторванной от политической практики. Народные же массы, низы, вели борьбу за выживание. Именно во время кризисов, когда резко ухудшалось их положение, накопившееся недовольство приводило к революционному взрыву.
Из это вовсе не следует, что русскому народу был исторически присущ «коммунизм» и что большевистская революция была обусловлена некоей русской расположенностью русской истории к большевизму и коммунизму, что она возможно была только в России, как думали некоторые представители консервативной и либерально-консервативной общественно-политической мысли, многие из тех черт и особенностей в русском историческом наследстве, которые обычно приводят в доказательство исключительно российского, национального характера большевизма и которые действительно не могли повлиять на характер и ход русской революции, сделав победу большевиков возможно, отнюдь не были «принадлежностью» лишь русской истории. Их можно с успехом отыскать в мировой истории, в том числе в духовно-историческом наследстве Западной Европы. Проблема заключалась вовсе не в каких-то, якобы до поры дремавших, «коммунистических» инстинктах русского народа. Более важным, по мнению мыслителей, являлось то, что социальная и политическая эволюция России в сторону политической свободы в результате сравнительно позднего ее подключения к процессу модернизации совпала с развитием на Западе социализма и проникновением его в умы верхов и низов российского общества. В то же время народные массы не были еще приобщены к главному стержню западной свободы - к собственности вообще, к земельной собственности в частности.
По мысли сторонников этой же точки зрения, большевики оказались у власти и за ними пошли массы отнюдь не благодаря проповедуемой ими социалистической или коммунистической идеологии. Весь ход исторического развития России и ее продвижение к свободе выявил определенную закономерность, смысл которой заключался в том, что на каждом этапе ее истории в России глубоко непопулярны были в самых разных слоях идеи постепенного раскрепощения общества. Историческая действительность в России - отсталость и нищета масс, сильная поляризация общества, равно как и огромный культурный и социально-экономический разрыв с передовыми странами Запада, делали неприемлемым путь постепенной, длительной трансформации традиционных структур. Поэтому представляется совершенно естественным, что победила та линия развития и та партия или общественное направление, которые больше всего соответствовали общественному настроению и «лучше» использовали возобладавшие в стране радикалистские устремления.
Таким образом, можно выделить специфические особенности российского революционного процесса, определившие его катастрофичность:
- самобытный анархизм масс, удерживаемых режимом насилия в состоянии пассивного подчинения;
- упадок правящего класса, осужденного историей на гибель, но надеявшегося на спасение путем устранения пошатнувшегося самодержавия;
- теоретический максимализм революционной интеллигенции, склонной к утопическим решениям и лишенной политического опыта;
- сепаратистские устремления национальных элит;
- психологические особенности национального генотипа, склонного к замедленной реакции на внешние раздражители, а поэтому конденсирующего в себе заряд психологической энергии, прорывающейся в виде революционных взрывов.
Таким образом, демократическая альтернатива, в течение восьми месяцев 1917 года успевшая трансформироваться из либерально-демократической в радикально-демократическую, не осуществилась. Слишком тяжелым наследием для новой России оказалась мировая война, а также многолетний острейший кризис системы, не преодоленный падением самодержавия, а в чем-то даже усиленный этим актом. В 1917 году революционный процесс нарастал, как следствие бурного, во многом стихийного потока.
Резкое усиление радикализма, а порой и прямого озлоблениямасс, соединенного с пережитками традиционного общинно-уравнительного массового сознания, сделало нереальной либерально-демократическую альтернативу, связанную с формированием стабильного политического режима и гражданского общества. Либеральной демократии не удалось соединить законотворческую работу по внедрению парламентаризма с проведением эффективной внешней и особенно внутренней политики. Осенью 1917 года массы уже не могли убедить логически безупречные доводы специалистов-правоведов о конструктивности парламентской демократии.
Дестабилизирующую роль в эти дни играла и антигосударственная деятельность большевиков, направленная на дискредитацию формировавшихся властных институтов ради достижения своих политических целей. К этому надо прибавить и известную амбициозность политических лидеров, и не преодоленную конфронтацию между ними, что в условиях быстрой радикализации масс, превращалось в безвластие и охлократию.
И все-таки осенью 1917 года объективно, по расстановке социально-политических сил могла быть реализована демократическая альтернатива путем создания однородного правительства из социалистических партий и избрания демократическим путем народного представительства в лице Учредительного собрания. Однако ультрарадикальная позиция большевистского лидера Ленина и его сторонников, громадная политическая воля и уверенность в возможности осуществления своей идеологической доктрины в условиях нарастания революционно-анархической стихии обусловили в конечном итоге иной характер развития событий: большевики пустили в ход «запасной вариант» - узурпацию власти.
Меньшевики и эсеры хотели стать «третьей силой», большевики хотели остаться единственной силой. Задача «третьего пути» - не как противопоставления друг другу, а как единства действий социалистических партий и групп посредством компромиссов, взаимных уступок, расширения демократии – так и осталась нерешенной.
Список источников и литературы
I. Произведения общественных и политических деятелей
- Бах А. Революция и социализм. // Год русской революции. М.: «Земля и воля». 1918.
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990.
- Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
- Вишняк Марк. Дань прошлому. // Свободная мысль. 1992. № 15.
- Деникин А.И. Очерки русской смуты. М.: «Мысль», 1991.
- Из глубины. Сборник статье о русской революции. М. 1990.
- Ильин И.А. Русская революция была катастрофой. // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М.: «Искусство». 1994. Т. 2
- Керенский А.Ф. Об армии и войне. Пг.: «Народная воля». 1917.
- Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М.: Правда, 1991.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31.
- Минин А.А. Дух разрушения в русской революции // Год русской революции. М. 1918.
- Плеханов Г.В. Круг смыкается. // Октябрь 1917 г. и судьбы политической оппозиции. Ч. III. Гомель. 1993.
- Степун Ф.А. Мысли о России. // Новый мир. 1991. № 6.
- Руднев В. Земское и городское самоуправление в 1917 г. // Год русской революции. М.: «Земля и воля». 1918.
- Струве Т.Б. В чем революция и контрреволюция? // Избранные сочинения. М.: «Земля и воля». 1918.
- Струве Т.Б. «За свободу и величие России». Новый мир. 1991. № 4.
- Суханов Н.Н. Записки о революции. М.: Политиздат. 1991.
- Троцкий Л.Д. Уроки Октября. // К истории русской революции. М.: Политиздат. 1990.
- Франк С.Л. Из размышлений о русской революции. // Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого». Новый мир. 1990. № 4.
II. Воспоминания, мемуары, дневники
- Бунин И.А. Окаянные дни. М. 1991.
- Гиппиус З. Петербургские дневники 1914-1919 гг. М. 1990.
- Горький М. «Несвоевременные мысли»: Записки о революции и культуре (1917-1918). М. 1991.
- Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М.: Республика. 1993.
- Керенский А.: Любовь и ненависть революции: Дневники, статьи, очерки и воспоминания современников. Чебоксары. 1993.
- Милюков П.Н. Воспоминания. М. 1991.
- Октябрьская революция: Мемуары. (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев). М.: Орбита. 1991.
- Октябрьский переворот. Революция 1917 года глазами ее руководителей. М.: Современник. 1991.
- Чернов В.М. Перед бурей. Воспоминания. М.: Международные отношения. 1993.
- Шульгин В.В. Дни. 1920. М. 1990.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»