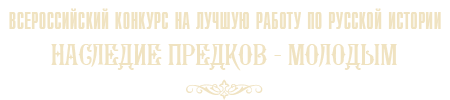Костов С.В.
Генезис отечественной социальной истории начался, как отмечалось выше, с эпистемологического поворота в мировой историографии в конце XIX — начале XX вв. Стремительное и лавинообразное возникновение отечественной научно-исторической методологии — это во всех отношениях уникальное явление, оказавшее колоссальное влияние на всю мировую историографию XX в. С исторической точки зрения этот феномен — явление второго порядка и представляет собой всего лишь частную производную, так сказать, одномерную проекцию от многомерного и еще более уникального явления, каким был в мировой истории «золотой век» Российской цивилизации.
Творческий потенциал теоретико-методологической базы отечественной социоистории был огромен, но исторически сложилось так, что в родном Отечестве он не был востребован, а за его пределами использован варварски и в хищнических целях. В границах же Российской цивилизации эволюция социальной истории, начиная с «золотого века», испытала два методологических кризиса: первый — с 1917 по 1938 гг. и второй — с 1985 г. по наши дни. Хронологически начала обоих периодов совпадают с моментами исторической бифуркации в развитии Российской цивилизации, т.е. кризисы методологии носят системный характер и по существу являются «эхом» цивилизационных кризисов. В период первого цивилизационного кризиса в идеологических целях произошла теоретико-методологическая «ампутация» всего того, что выходило за рамки истмата. В 1938 г. после приобретения протезов в виде «Краткого курса истории ВКП(б)» вооруженная марксистско-ленинским биноклем отечественная методология бодро зашагала в «научный коммунизм». Однако победоносное шествие было остановлено вторым цивилизационным кризисом. Бедному калеке поломали протезы, разбили бинокль, взамен которого предложили импортные очки с фирменным знаком школы «Анналов». И до сих пор «цены не зная им», ликующий русак «вертит очками так и сяк: то к темю их прижмет», то на культю нанижет, «то их понюхает, то их полижет; очки не действуют никак». Визуальные протезы на поверку оказались бросовым, залежалым товаром; более того, реальная эффективность их действия, точнее говоря, методологическая мощь их близорукости, оказалась такой, что зрение калеки резко падало ниже уровня допротезных времен: хорошо эрудированный историк, знакомый с российской методологией истории, при изучении школы «Анналов» во всем ее творческом наследии не найдет ничего нового, тем более, оригинального. Тотальная история — приоритет за Л.П. Карсавиным, история ментальностей — приоритет за С.М. Соловьевым, И.Е. Забелиным, В.О. Ключевским, Н.И. Костомаровым, Н.Я. Данилевским и Л.П. Карсавиным, история цивилизаций — приоритет за Н.Я. Данилевским, С.М. Соловьевым и В.С. Соловьевым, идея влияния географической среды на человека и общество — приоритет за С.М. Соловьевым и В.О. Ключевским, историческая и культурная антропология — приоритет за И.Е. Забелиным, Н.И. Костомаровым, Н.Я. Данилевским, В.О. Ключевским и Л.П. Карсавиным, история повседневности — приоритет за И.Е. Забелиным и Н.И. Костомаровым, не говоря уже о полидисциплинарном подходе (М.М. Ковалевский) и структурализме (А.А. Богданов). Более того, А.Л. Ястребицкая приоритет в тотальной истории, исторической антропологии, культурантропологии, культурной истории, истории ментальностей, истории повседневности и материальной культуры отдает одному Карсавину. К научным лаврам Карсавина следует добавить «ненаучную» религиозную парадигму, выдвинутую им и которую позднее «зафилософили» за собой А. Тойнби и К. Ясперс.
Проще говоря, начиная с 1938 г., задействованный потенциал отечественной методологии истории был чрезвычайно мал в сравнении с незадействованным, до сих пор оставшимся невостребованным, громадным базовым потенциалом, которым в действительности обладали отечественная научная мысль в целом и комплексная историческая методология в частности. Российский народ дорого заплатил за отказ своей «научной элиты» от бесценного наследия, оставленного нашими великими предками. Цельность, стройность, укомплектованность, масштабность, эффективность, многоплановость, потенциальную мощь отечественной научно-исторической методологии до 30-х гг. можно уподобить гоголевской «птице-тройке», в которой коренной — тотальная теотектология (Карсавин и Богданов), а по краям — историческая социология и историческая антропология (вся «златовечная» плеяда создателей отечественной историко-методологической «патристики»). В период первого цивилизационного кризиса стремительный бег «тройки» замедлился, а в 30-х гг. вообще остановился: коней распрягли, они разбрелись кто куда и стали жертвами конокрадов; карету переделали в рыдван, набили истматом, и с песней «Эй, ухнем!» его потянули доморощенные бородаи, келле и ковальзоны.
На Западе и того хуже: воз историографии уперся в непреодолимый камень преткновения, «русскую тройку» по всем правилам «мясной науки» освежевали, разделали на части и пустили с молотка, а вместо них впрягли щуку (психоаналитический структурализм), рака (микроисторическая методология) и лебедя (макроисторическая методология). Поклажа лавинообразно нарастала, а воз в полном соответствии с технологией И.А. Крылова не двигался. Гора историографии на повозке, между тем, достигла отметки Монблана (4807 м). Сначала ее хотели деконструировать постструктуралисты, но их собственные монографии еще более перегрузили повозку. Рост историографии «оседлал» экспоненту — и в Западной Европе стала возникать рукотворная Джомолунгма (8848 м). В конце концов, это надоело «патриотически» настроенным постмодернистам, и они единым махом решили «вечную» проблему исторического синтеза — «рванули» всю эту повозку вместе с щуками и раками. «Ошметья» этой рукотворной Джомолунгмы до сих пор летают по планете. Кое-что перепало и нашему брату, отечественному социоисторику, в виде вышеупомянутых очков с фирменным «лэйблом». Такова вкратце современная историографическая ситуация, наблюдаемая в мире.
Ситуация в Отечестве отличается лишь местной спецификой, т.е. локальными социоисторическими условиями. Российская цивилизация за свой относительно короткий период после «золотого века» переживает в наши дни второй цивилизационный кризис, вызванный «благонамеренным» разрушением всех барьеров, препятствующих «благотворному» вхождению России в мировое сообщество. На наших глазах происходит, как принято считать, очень тесное культурное взаимодействие, что, по Н.Я. Данилевскому, если конкретно осознавать, кто с кем взаимодействует, означает «пересадку» Западной цивилизации на российскую почву «посредством колонизации» населяющих ее народов, «дабы обратить их со временем в подчиненный, служебный для высших целей этнографический элемент». А.А. Зиновьев такой межцивилизационный контакт назвал «западнизацией» и достаточно подробно описал ее технологию. Но раскрыть механизм этого культурного взаимодействия позволяет только богдановская тектология. В этом суть второго цивилизационного кризиса. Как уже говорилось выше, его эхом стал второй методологический кризис отечественной социоистории: вместо того, чтобы по крупицам собирать все золото нашей отечественной методологической «патристики», наша научная элита, сломав марксистские протезы, захлебнулась в методологической проблематике постмодерна. Отечественная социальная история окончательно потеряла свою методологическую независимость: «постмодернистский вызов», будучи периферийным для российской историографии явлением, в условиях «открытого общества» стал общим и, более того, метропольным явлением, поскольку сама отечественная историография затерялась где-то на периферии. В этом суть второго методологического кризиса отечественной социальной истории. Лакейское, совершенно холопское его содержание выразил Л.М. Баткин, известный член редколлегии не менее известного альманаха «Одиссей»: «Я низко кланяюсь позитивизму, марксизму, веберианству, неокантианству, структурализму, школе «Анналов», кризису школы «Анналов», постмодернизму… Надо думать, это, собственно, и есть исторический синтез?». Зачем гадать? Не проще ли позвонить Р. Пайпсу и спросить, что он думает по этому поводу? А думает он так же, как и Бжезинский: исторический синтез — это делить, делить и еще раз делить Россию, а куски интегрировать в мировую систему. И тогда вообще некому будет кланяться, ибо нет Отечества — нет и отечественной науки, не будет и лакействующих социоисториков. А если каждый из ныне действующих отечественных социоисториков будет по 20 лет герменевтически изучать «“зазоры” в смысловой подкожной ткани» и сопутствующую этим «зазорам» «казуистику», то конец отечественной научной истории не за горами. Все эти неокантианские, феноменологические, фрейдистские, деконструктивистские, «новоинтеллектуальные», «лингводетерминистские» и прочие методологические «ошметья» западной научной мысли — это всего лишь блохи по сравнению с мамонтом, каким является то величайшее научное наследство, которое оставили нам наши великие предки. Нынешнее научное сообщество отечественных социоисториков в подавляющей своей массе представляет собой крыловского Любопытного, изучающего в тамошней кунсткамере диковинных «бабочек, букашек, козявок, мушек, таракашек», а слона (отечественную универсальную теоретико-методологическую базу) так и не приметившего. Конечно, «букашечно-таракашечная» социоистория — тоже наука, и там есть свои наработки, открытия и т.д., но всему есть мера: нельзя же, в конце концов, всю социоисторию сводить к «козявкам и мушкам». Даже обыкновенный здравый смысл требует соразмерности. Тем более, что среди залетевших к нам из-за бугра методологических «ошметьев» есть и тупиковые, и вирусоподобные, и совершенно бесполезные, а то и попросту эпатажные.
Взять, к примеру, В.П. Булдакова, достаточно авторитетную фигуру в среде отечественных историков. Вооружившись одним из таких «ошметков», он сконцентрировался «на психопатологии российской смуты XX в.». Объект его исследования — революционное насилие. Метод исследования — «фрейдо-психиатрический» подход. Тип исторической реконструкции — смесь научного историописания с художественной наррацией, т.е. гибрид пингвина и павлина, по выражению автора. Стиль изложения — вальяжный, напоминающий монолог Шарикова в своей «кошкодавке»: «отбулдачив» смену, заведующий подотделом очистки Полиграф Полиграфович самодовольно «рефлексирует» после пропущенного стаканчика. Причем «рефлексия» на серьезную тему «отцы и дети», что-то вроде декадентского продолжения известного тургеневского романа. Сюжет простой и даже библейский, если вспомнить притчу о блудном сыне: «сначала развалился патернализм (отец — “непослушные” дети), потом на авансцену вышел его “теневой двойник” (вожак — толпа), а в 20-е годы возобладала ситуация “целитель” (государство) — “пациент” (народ)… и выплыла примитивнейшая форма властвования “вождь — масса”». Архитектоника психонаррации рыхлая и в целом представляет собой коллаж из обывательских мнений «живых свидетелей» и таких же обывательских рассуждений автора. Претензии на психоанализ завышены, ибо основная установка автора — на виртуальность. Об этом автор говорит прямо: «любая история — это прежде всего история представлений. Поэтому в воспоминаниях людей… уместно вычленять не то, что они хотели сказать, не то, о чем они проговорились, а что они чувствовали и как думали. История не феноменологична, а мифологична. Слух, предрассудок, ложное представление в ней важнее реального факта». И как некое научное новаторство, этот очередной «задавака» сверхновейшей парадигмы социальной истории — культурно-антропологического иллюзионизма — во всеуслышание заявляет, что в его мифологии, названной каким-то клакером «историографической бомбой», «на передний план выступают эмоции, иллюзии, поверья, страсти». В результате действительно получился виртуальный психопатологический триллер о каких-то эпилептоидах и homorossicus’ах, среди которых отчетливо вырисовывается фигура «гибридно-химерического существа… с маниакальным упорством бегущего “впереди прогресса” в неуклюжих ботфортах докапиталистической эпохи до полного изнеможения». За кем? Да конечно, за Булдаковым. А ведь он, прикинувшись И.А. Буниным из «Окаянных дней», всего лишь безобидно прогуливался по страницам своей «психострашилки» и как штатный осведомитель подслушивал все, о чем говорят наивные обыватели. Фактология этой обывательской летописи достаточно объемная, что является единственным плюсом для этого в целом малонаучного нарратива. Среди всего многоцветия современных исследований новейшей русской истории, например, даже в сравнении с последней работой другого, уже не виртуального, а настоящего осведомителя, А.И. Солженицына («Двести лет вместе»), «красная наррация» Булдакова — не более чем «серая клякса». Даже с точки зрения «истматиков» представленная на 376-ти страницах серая «психобулдаковщина» — это всего лишь неизбежный скрип, шум эпохи в результате грандиозного формационного сдвига. Динамика макроистории без этих микроисторических последствий, естественно, невозможна. Эту сторону микроистории всегда отражала художественная литература. Булдаковский нарратив — яркий пример их слияния.
Ограничив свою научную деятельность микроисторией, сам Булдаков признает, «что опыт любой “макроисториографии”, концентрирующейся на выявлении так называемых объективных закономерностей развития человечества и плотно сопряженный с экономической историей, может скорректировать деятельность исследователей, использующих совершенно иные принципы подхода», т.е. включая и его собственный психоаналитический подход. «Вместе с тем, двигаясь от “простого” человеческого к более “сложному” материалу, автор поневоле вынужден коснуться общей теории российской смуты». Это уже интригует. Тем более что, по утверждению столичного социоисторика, «за революционными переворотами, декретами, их лидерами и творцами всегда стояли феномены куда более объемного, многовекового порядка». После чего следует многообещающее заявление: «Пора, наконец, дать слово и им». В своей общей теории российской смуты Булдаков делает упор на переосмыслении феномена российского имперства. В его понимании это — «уникальная сложноорганизованная этносоциальная и территориально-хозяйственная система реликтового патерналистского (“большая семья”) типа», т.е. это некий исторический реликт, эдакий «колосс на глиняных ногах», имперская мощь которого основывалась «на вере низов в “свою” власть». Чуть вера заколебалась, зашатался и колосс: в модели Власика — глина размякла, колосс накренился. Вот на этой «мякине» и возводится вся теория. Суть ее такова: «глобализация человеческой истории» подключением «факторов “непредсказуемости”» периодически разогревает глину (российский народ), меняя воткнутые в нее колосья (династическую власть). Введение Булдаковым семи «уровней» такого «разогрева» («этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный») существа теории не меняет. Модель Власика в силу своего необыкновенного совершенства, что есть следствие редкостной семантической плотности, устраняет всяческую «булдаковщину», так как исчезает сам объект исследования — революционное насилие. В этом смысле удобнее другая, более «прибулдаченная» для таких уникальных исследований модель. В конференц-зале идет пленарное заседание научного сообщества. Все, как положено: президиум, секретари, члены ученого совета, зал переполнен слушателями от научной элиты до прыщавых студентов. Все идет по заранее установленному регламенту и до тех пор, пока в действие не вступает фактор «непредсказуемости». К примеру, клакеры, несогласные по какому-то пункту, устраивают обструкцию. Спячка в зале прекращается: сначала возникает оживление, затем возбуждение, обстановка накаляется и так до тех пор, пока кто-нибудь из клакеров или из «прогрессивных историков» радикального направления не бросает в президиум какой-нибудь там фугас, петарду или, на худой конец, бутылку с «коктейлем Молотова». В зале вспыхивает пожар. В действие вступает «коллективное бессознательное». Почтенная публика мигом превращается в «психотолпу». У дверей возникает «сложная, многоплановая» давка с «варварским примитивизмом протекания», суть которого «ощутить и понять… можно лишь основательно погрузившись в сгущенно-хаотичную атмосферу» этого массового психоза, «прочувствовав ее изнутри». «Разумеется, это занятие не для слабонервных», — изрекает крупный специалист по изучению насилия в таких давках, академично набрасывая общую теорию подобных давок и предельно кратко формулируя направленность своего исследования: «человек должен сам понять причину своего былого умопомрачения». Эмоциональное, не без увечий и травм, протекание ученого сообщества сквозь дверной проем научно определяется как «эпидемия социального умопомешательства и массового насилия». Приоритет в булдаковском социоисторическом изучении отдается страстям, эмоциям, ругани, крикам типа «женщин вперед, сволочь!» и воплям типа тургеневского выкрика «спасите меня, я единственный сын у матери!» и т.д., включая разнообразные элементы «садистской самодеятельности» и «глумления над таинством смерти». По мысли Булдакова, причины такого «общественного недуга» не сводятся к «“внешней” инфекции»: «любая зараза торжествует только в ослабленном организме». После того, как ученое сообщество отслужило традиционную панихиду по трагически павшим товарищам и залечило собственные раны, оно вновь собирается на очередное пленарное заседание в новом конференц-зале с другим президиумом. Такова вкратце суть булдаковской теории смуты. Причем независимо от того, чего добивались клакеры и стоящие за ними невидимые дирижеры, исход давки и «историческую судьбу» следующего заседания, по Булдакову, в конечном счете «определяет обыватель, а не доктринер».
Следует отметить еще один вклад Булдакова в отечественную социоисторию, может быть, не столь значительный, как парадигма культурно-антропологического иллюзионизма, но все же существенный, который вполне может вызвать «определенное познавательное напряжение в студенческий среде». Речь идет о совершенно новой экспликации социоисторического термина «менталитет», поскольку Булдаков обнаружил, что бывшие истматчики свои «старые подходы пытаются мимикрировать с помощью терминологии»: «вместо привычного термина “сознание масс” исследователи охотно и бездумно стали оперировать понятием менталитет, причем к последнему в иллюстративных целях нелепо пристегиваются документы чисто политического характера». Это недопустимо, считает Булдаков, так как «исторически понятие менталитет включает в себя, прежде всего, логические стереотипы мировосприятия, характерные для западного социокультурного пространства. В России основы мировосприятия определяются, скорее, эмоциональностью, базирующейся, в свою очередь, на этических императивах. Применительно к России можно говорить лишь о психоментальности». Даже «бессознательное» самого Булдакова вряд ли согласно с такой сознательно вербализированной «булдаковщиной». Начиная с «золотого века», отечественная методологическая «патристика» оперировала такими понятиями как «природа племени» (С.М. Соловьев), «народный дух» (И.Е. Забелин), «духовно-нравственное бытие народа» (Н.И. Костомаров), «психический строй» и «склад ума» (Н.Я. Данилевский), «народный темперамент» (В.О. Ключевский) и «социально-психическое» (Л.П. Карсавин), понимая под этим и образ мыслей, и умонастроение, и мыслительные установки, и коллективные представления, и верования, и мировидение, и способ мировосприятия, и мировоззрение, и склад ума, и духовные привычки, и культурные архетипы, и ценностные ориентации, и традиционные нормы поведения, что, собственно, в наиболее сжатом виде включает в себя четыре социокультурных стереотипа: этический, эстетический, аксиологический и когнитивный. Как минимум последний содержит в себе логическую компоненту, огромную культурную глубину залегания которой, или степень ее архаики, отметил Данилевский, впервые высказавший гениальную мысль, что логическое строение языка является коррелятом психологического строя племени.
Если Булдаков предпочитает западную экспликацию понятия «ментальность», то она ничем не отличается от отечественной. В частности, Л. Февр, который, собственно, и ввел в западную социальную историю (в соавторстве с М. Блоком) категорию «mentalites», стремясь придать этому термину более конкретный характер, впоследствии более конкретизировал это понятие, запустив в обращение «outillagemental», что в переводе на родной Булдакову язык означает «духовно-психическую оснастку» и «умственную вооруженность», подразумевая под ними «определенные типы психических реакций и поведения», т.е. все те же духовные структуры людей, которые более определенно выражены в нашей отечественной теоретико-методологической «патристике».
Таким образом, экспликация термина Булдаковым идет вразрез с принятой в мировом научном сообществе, ибо, во-первых, ментальность и психоментальность — это синонимы, а во-вторых, оба они содержат логическую компоненту, чего нельзя сказать о Булдакове, отсутствие которой он так неосторожно обнаружил, перенапрягая «до изнеможения» научную и студенческую мысль.
И последнее. Это касается степени научности, на которую претендует монография. Объект исследования, избранный Булдаковым, принадлежит к области новой научной дисциплины, основы которой заложила тектология Богданова. Речь идет о хаосологии — прикладной дисциплине синергетической теории, изучающей переходы от порядка к хаосу и наоборот. Согласно критерию научности М.Н. Покровского, тектология, в частности синергетика, более научна, чем фрейдология, на которой базируется психоаналитический метод, примененный Булдаковым при изучении революционного насилия в условиях социального хаоса. Более того, научность булдаковского метода только и может оцениваться по западным критериям, отталкиваясь от которых фрейдология считается наукой. А критерий научности на Западе базируется на «трех китах»: на конвенционализме научной элиты, на общественном мнении научного сообщества и на кредите общественного доверия. Вся эта «троица» с прямыми и обратными связями корректируется «власть имущими». Таким образом, западный критерий научности — это некое представление, устроенное в целях личного обогащения Карабасом-Барабасом с помощью Пьеро, Арлекино и Буратино.
С тектологической точки зрения психоанализ в любой нынешней его версии, от Фрейда и до современных его эпигонов, — это псевдонаука, что-то вроде недонаучной описательной полуэмпирической полумифологичной герменевтики, спекулирующей на бессознательных структурах человеческой психики. Тектология акт за актом ясно и без всяких спекуляций объясняет переход упорядоченной системы в неравновесное состояние в условиях изменяющейся среды и последующее структурирование средой нового упорядоченного состояния системы в полном соответствии со спецификой ее внутрисистемных элементов, учитывая при этом всевозможные бифуркационные моменты системной организации в состоянии динамического хаоса, задающего вполне определенный горизонт вероятных состояний системы, так сказать, «каналы» ее эволюционного развития. Критерий научности М.М. Ковалевского требует полидисциплинарного подхода к одному и тому же объекту исследования, а результаты других подходов, в частности, формационного, цивилизационного, тектологического, согласуясь между собой, не согласуются с результатами «заведомо и намеренно одностороннего» булдаковского подхода, будучи принципиально противоположными. Научность же самого психоанализа по ленинскому критерию (истматовскому) прямо пропорциональна относительной статистике вылеченных этим методом в сравнении со статистикой вылеченных другими методами научной медицины. Что же касается результатов социоисторического исследования Булдакова, то научность их с точки зрения ленинского критерия стопроцентна, так как, воистину, если человек наступит на гвоздь, то он как минимум вскрикнет, а если его ударить в темноте молотком, то, помимо вскрика (связанного явно с психопатологией, ибо по логике Булдакова он должен молчать, как Камо), в распоряжение экспериментатора от потерпевшего поступит большой пакет обывательских рассуждений по поводу, кто или что его ударило, зачем и почему и т.д. Относительно же булдаковской гипотезы, что эти удары есть продукт психоментальности потерпевшего, т.е. попросту запрограммированы ею, следует отметить абсолютную непригодность всех трех отечественных критериев научности, единственный же критерий, который может соизмерить ее научность, — это критерий Тертуллиана: «верую, потому что это абсурдно».
Собственно, вся научность булдаковского подхода состоит в том, что в нестабильные исторические моменты огромную роль играет субъективный фактор («революционные психи», доктринеры, кукловоды, маргиналы и другие социопаты), а в стабильные — обыватель. Это тривиально, и нет предмета для спора, если не забывать при этом огромную роль внешней среды, игнорируя которую, Булдаков превращается в ученого, изучающего обитателей некой то возникающей, то исчезающей «складки», с удивлением обнаруживающего периодические вспышки «психоза» с массовыми увечьями и гибелью части населения. Игнорируя внешний фактор, такой исследователь будет просто вынужден объяснять периодичность психозов своеобразием психики обитателей, разрушающих первичную «складку» и создающих вторичную, хотя на самом деле структурные изменения «складки» вызваны изменением положения ноги, в области изгиба которой находится «складка». Причиной же самих изгибов ноги является, к примеру, передвижение мамонта по направлению к пище. Пищу как приманку над западней положили охотники на этого мамонта. А делать это их заставил голод, причина которого — резкое климатическое похолодание, вызванное вполне конкретными изменениями солнечной активности и т.д. Спрашивается, какими факторами Булдаков должен обосновать психопатологию обитателей «складки», не говоря уже о создании общей теории периодической «складчатости»? А ведь это азы тектологии.
В заключение особо хочется отметить относительную оригинальность фрейдо-психиатрического подхода к социоисторическим явлениям, которую Булдаков откровенно подчеркнул в следующем своем бессмертном высказывании: «Что делать, в наше время и подражательный лепет стараются выдать за откровение».
С методологической точки зрения «Красная смута» Булдакова — это эпигонство на рубль с результатами на копейку. Это следствие не только методологической дезориентации в мировой историографии, но и повсеместного игнорирования нашими социоисториками достижений отечественной методологии. И, более того, не просто игнорирования, а прямо-таки смердяковского пренебрежения к нашему бесценному теоретико-методологическому наследию. Для устранения этого перекоса требуется элементарный методологический ликбез на уровне вузовского просвещения. Это исходная прямая связь в системе «наследие — наследники». Новая генерация отечественных социоисториков возродит и обратную связь, в результате чего отечественная методологическая база будет прирастать новыми разработками, органичными и наследию, и нашему уникальному образу мышления. Вот тогда, наконец, отечественная научная мысль выйдет на такой уровень своего развития, который раз и навсегда отобьет у наших социоисториков охоту кланяться всяким залетным из-за бугра «измам».
К сожалению, на сегодняшний день ситуация в отечественной историографии с той же методологической точки зрения хуже не придумаешь («Батый прошел», — говорят в народе). Есть, конечно, и рублевы, и феофаны греки, но как всегда в ничтожном количестве; в основной же массе преобладают все те же келле, которые теперь «рубят» цивилизационный подход до размеров формационного и «растягивают» формационный в целях исторического синтеза. В общем, ситуация методологического хаоса. Конечно, неплохо, когда одни используют, как в старые добрые времена, методологию истмата, другие осваивают цивилизационный подход, третьи увлеклись микроисторией и казусами. Беда в другом: методологический уровень в отечественной историографии в целом упал, и как следствие — качество научных монографий.
Если отсеять чисто нарративные, а также все неоригинальные в теоретико-методологическом плане монографии, то обнаружить крупного методологического «вкладчика» в банк социальной истории можно только с помощью электронного микроскопа. Бесспорно, вклады всякие нужны, вклады всякие важны, т.е. нужны и такие работы, как «“Маленькие люди” и “большая история”» С.В. Журавлева, «Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат» О.С. Поршневой, важны и такие труды как «Социальная история России периода империи» Б.Н. Миронова, «Курс советской истории» А.К. Соколова, важен и такой труд как «Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан», но следует еще раз отметить, что все эти работы представляют собой всего лишь конкретно-исторические исследования или учебные пособия на основе либо уже разработанной отечественной методологии, либо импортных методологических «окорочков».
Взять, к примеру, монографию С.В. Журавлева, который «методом биографической реконструкции» на основе изучения индивидуальной судьбы «гастарбайтеров» московского Электрозавода сделал попытку «осуществить своеобразный исторический синтез на микроуровне общества; возвратить историю к человеку и повествованию, к рассказам о прошлом, реконструируя его уже как бы на другом качественном витке, опираясь, во-первых, на иной ракурс, новый взгляд на события прошлого — “снизу”, глазами и словами рядового человека, во-вторых, на основе новых источников… в-третьих, на базе достижений смежных наук о человеке и обществе (историческая антропология, лингвистика, психология, этнология, демография и др.)». Разбору этой монографии был посвящен «круглый стол», на котором один из участников «заметил, что для С.В. Журавлева история повседневности является своеобразной квинтэссенцией социальной истории». Во-первых, следует сказать, что с помощью подобной социоисторической квинтэссенции «своеобразного исторического синтеза» не осуществить, причем в принципе, так как обыкновенный, «несвоеобразный» синтез подобного рода осуществляется встречными познавательными потоками, локализованными на объекте исследования, истекающими, так сказать, «сверху» и «снизу»: первый поток — дедуктивный, теоретико-методологически организованный сообразно всему состоянию современной научной мысли, предварительно очищенной тремя критериями научности от всяких антинаучных «вирусов» и псевдонаучного «мусора», т.е. отраженной от относительно истинной на данный момент времени макроисторической парадигмы (а не идеологически «закругленной» на застольях биодетерминированного научного сообщества), и второй поток — индуктивный, таким же образом организованный и рафинированный теми же критериями, но отраженный от микроисторической парадигмы, относительно истинной на тот же момент времени. Во-вторых, речь идет о реконструкции не прошлого вообще, а только частной жизни конкретных «гастарбайтеров», т.е. о реконструкции чрезвычайно ограниченной и очень специфичной парциальной информационной среды; иными словами, речь идет о раскодировании социоисториком вербализованного им и объектом его изучения некоего исторического текста, «квантово-исторические эффекты» в процессе которого просто неизбежны. Проще говоря, это значит — объяснять падение цветочного горшка на голову прохожего с помощью изучения составляющих этот горшок элементов или, что более «микроисторично», изучением элементарных взаимодействий электронов, протонов, нейтронов, позитронов, а в данном случае каких-то экзотичных и очаровательных пи-мезонов. Или другой пример — расспрашивать с помощью «инициированных интервью» аквариумных рыбок об их «житьи-бытьи», т.е. о бесконечных депортациях из банки в банку, в целях реконструировать либо процесс создания аквариума, либо просто интерьер аквариумиста-любителя. И, в-третьих, журавлевское «возвращение истории к повествованию и рассказам о прошлом» — это ослабленный резонанс на вторжение постмодернизма в сферу социальных наук, антисциентистски ориентированного на «возрождение нарратива» и реабилитацию художественно-повествовательных методов. С одной стороны, это можно рассматривать как экспансию социальной истории в сферу литературы, а с другой, наоборот, но суть от этого не меняется: с любой точки зрения налицо слияние литературных жанров, например, биографического и документального, с «жанрами» социальной истории, например, историей повседневности в версии Журавлева или историей ментальностей в версии Булдакова, хотя последняя на самом деле представляет собой историю периодически возникающих воплей и всхлипов в результате антагонистической борьбы иллюзий и слухов. Алесь Адамович и сотоварищи, «записавший народ» своим бессмертным трудом «Я из огненной деревни…Блокадная книга», — в большей степени менталист-повседневник, чем Журавлев и Булдаков вместе взятые. А ведь он или Вадим Бойко, кровью сердца писавший свою книгу о фашистских концлагерях, и не подозревали, что писали какую-то там «микроисторию». Социальная история, понимаемая как научная история, не допускает подобного смешения. Вот почему расплывчатый и многозначный термин «социальная история», превратившись в «термин-амебу», должен уступить место в области социальных наук более конкретному и однозначному термину «научная история». А то, что труд Журавлева, также как и труд Адамовича, социально значим, вряд ли кто будет оспаривать. Но вряд ли кто не согласится также и с тем, что, несмотря на то, что наука пользуется языком литературы, суть науки и суть литературы глубоко различны.
Несколько получше положение в современной отечественной макроисториографии. Вышеупомянутая монография Б.Н. Миронова хотя и с фактологической точки зрения на целый порядок выше, чем монографии Булдакова и Журавлева, но с точки зрения методологии все же оригинального вклада в отечественную научно-историческую методологию она также не внесла. Междисциплинарный подход с блестящим использованием приемов и концепций социологии, политэкономии, географии, демографии, статистики, политологии, психологии и антропологии плюс методы англо-американской исторической методологии — вот и вся теоретико-методологическая база Миронова. По словам самого автора, он «стремился исследовать социальную историю императорской России, опираясь на достижения отечественной и зарубежной, прежде всего, американской, историографии… используя понятийный аппарат и подходы современной социальной науки… Анализ выполнен в традициях социальных историков, стремящихся сделать историографию научной скорее на макроуровне, чем на микроуровне, так как мне хотелось понять логику русской культуры, мысли и истории». Даже выдвинутая Мироновым историософская идея клиотерапевтического смысла российской истории неоригинальна, ибо первым подобным клиотерапевтом был Н.М. Карамзин, своей «Историей государства Российского» доказавший «нам, без всякого пристрастья, необходимость самовластья и прелести кнута»: «Но какой народ в Европе может похвалиться лучшею судьбою? Который из них не был в узах несколько раз? <…> И какой народ так славно разорвал свои цепи? Так славно отмстил врагам свирепым?». Опора Миронова на американскую историографию, «которая в настоящее время является самой продвинутой частью зарубежной русистики», тоже снижает достоинства монографии, хотя сам автор противоположного мнения. Русистика «западоида» — это всегда кривое зеркало; самая лучшая русистика — это постижение России именно отечественным социоисториком, причем не только «изнутри», но и «снаружи», т.е. когда сын Отечества и дома достаточно лаптем щей нахлебался, да и на чужбине «саламандрой» или кроссовками — столько же. Разумеется, если его носило по свету истины, а не щей ради. Яркий пример такой русистики — это постижение Российской цивилизации «изнутри и снаружи» А.А. Зиновьевым или, если «копнуть» глубже историю, — И.С. Пересветовым в XVI веке. Квинтэссенцию «их» русистики выразил маркиз де Кюстин в своей известной книге о России, повторявший как заклинание: «здесь следовало бы все разрушить для того, чтобы создать народ». Эту же русистику продолжает и Бжезинский, и его сотоварищи.
Нельзя не отметить великолепный «методологический» прием Миронова, который в маркетинге называется «promotion» (стимулирование сбыта продукции), а в военной психологии — психической атакой в целях морального подавления вероятного противника (психообработка научного сообщества). Речь идет о редкой «фундированности» исследования, библиография которого включает 3521 название. Фантастический оборот текстов! Здравый смысл отказывается этому верить: если даже в день читать по одной книге, то на одно лишь освоение такого количества литературы уйдет 10 лет. Что можно сказать? Разве что посетовать: маловато, мол, еще текстов по истории имперской России. Оценку такой «фундированности» дал в свое время Л.П. Карсавин, назвав ее «мнимо-научной точностью»: «историк считает необходимостью прочесть всю литературу вопроса и, уж конечно, не забывает оповестить о том — прямо или косвенно — своих читателей, хотя девять десятых ее никому и ни для чего не нужны. В подтверждение выставляемого и защищаемого им тезиса он стремится привести возможно большее количество текстов… некоторые авторы ведут счет всем ссылкам; подумайте: в книге 1431 примечание! это ли не ученость?». Конечно, такой прием — тоже методология, но уже из области психотроники и применяемая в целях «колонизации» научного сообщества, точнее, взятия его «на абордаж».
Концептуальная база Миронова в целом укладывается в русло отечественной социально-исторической мысли, за исключением мелких атавизмов европоцентризма в виде превратно толкуемых им таких исключительно европейских терминов, как «модернизация», «гражданское общество», «правовое государство», «либерализьмы», «феодализьмы», «капитализьмы» с какими-то «буржуазностями»... Прямо-таки истматовское средневековье! Хотя нет худа без добра: такое «терминологическое меню» из «западоидной кухни», вся экзотика которой коренится исключительно в специфике европейской ментальности, является великолепной «приманкой» (не в обиду сказать, «наживкой») для доморощенных любителей устриц «стив облонских». «Заглотав излюбленную наживку», эти «стивы» моментально «переключаются» на свой волапюк и разводят бесконечный переливающий из пустого в порожнее «кулинарный дискурс», который считается в их среде историографической критикой. Для здравомыслящих людей подобная «терминологическая окрошка из западоидной кухни» является всего лишь предупредительным сигналом. Все ясно: перед нами очередной «стива», и «напрягать» его «кулинарные мозги» в «некулинарном направлении» бесполезно. Простые истины для таких «стив» оказываются неприступным Эверестом, запредельной абстракцией в дебрях высшей математики. Этот феномен достаточно хорошо описан еще Н.Г. Чернышевским. Российская ментальность «в упор не видит», даже в электронный «мелкоскоп» не различает среди своих приоритетов какое-то там «кулинарное право частной собственности» (то, что эта уникальная ментальность эксплуатируется разнообразными «кулинарами», — это уже другой вопрос). «Гражданское общество» и «правовое государство» — это общественная и политическая форма ментальных структур исключительно «западоидов». Эту фразу всем «стивам» надо 3521 раз повторять на кандыбинских сеансах силового гипноза или во время «сайентологического клиринга». Только тогда до них дойдет, что гражданское общество — это общество исключительно собственников, что правовое государство — это форма защиты их собственности, что в основе и того, и другого лежит расизм между имущими и неимущими, причем обе расы исключительно атомизированы и управляемы, и что вся эта экзотика никакого отношения к Российской цивилизации не имеет, ибо ее государственность — отеческая, а ее народ — единая семья, что такая орхидея, как «буржуазность», в принципе не могла вырасти на российской почве, ментальной, разумеется, и т.д., и т.д. Из банального утверждения Миронова, что в доимперской России не было классов и сословий, такой «стива» делает сногсшибательный по степени трансцендентальности вывод, что уже к середине XVII века Московская Русь «отстала в историческом развитии от Западной Европы как минимум на десять столетий». Поражает ход рассуждений (даже определить сразу трудно, кто перед вами: ловкий манипулятор вроде наперсточника или просто Умная Эльза из одноименной сказки братьев Гримм): неважно, как проходила эволюция человеческого общества, а вот у клопов она проходила так и так. В результате такой манипуляции эволюция Российской цивилизации измеряется почему-то европейской линейкой, дела сугубо отеческие проецируются зачем-то на европейскую плоскость. Конкретно ход рассуждений следующий: «Европейский феодализм прошел три крупных этапа — начальный, охвативший V—XI века; зрелый, вместивший XI—XV века; поздний, который, вобрав XV—XVII века, одновременно был началом Нового или буржуазного времени», а в России к этому времени не было даже сословий, — и далее следует сенсационный «вывод, что в развитии России и Европы существовал не просто разрыв, а самая настоящая пропасть». Видимо, после таких рассуждений (типа «в огороде бузина, а в Киеве дядька») Миронов должен покраснеть от стыда и публично покаяться. Может быть, он так и сделает, но при чем здесь европейцы, марсиане или племена тумбу-юмбу, если речь идет о сугубо российских делах. А ведь в «кулинарном волапюке» у «стивы» имеется и такое понятие, как «цивилизация». Тогда в чем он усматривает уникальность отдельных цивилизаций? Неужели в его представлении Европейская цивилизация — это ухоженный квадратный газон, а Российская цивилизация — бесформенный газон типа «поляна» или, на худой конец, круглой формы? Непохоже, ведь в его «волапюке» есть и понятие «ментальности», откуда следует, что европейский и российский народы суть не одна трава. Тогда, если они — клевер, а мы — пырей, зачем же ахинею городить? Одна трава — одно-двухлетнее, а другая — многолетнее растение. Дерево уникально, и кустарник тоже. Слон живет на порядок больше, чем шакалы. Период беременности у слонов — 20-24 месяца, а у шакалов — 2 месяца. Первые половой зрелости достигают в 10-20 лет, что опять же на порядок больше, чем у тех же шакалов. Первые — травоядные, вторые предпочитают падаль. По утверждению «кулинарно-образованных стив», слон отстает в развитии от шакалов (как было отмечено, он между ними обнаружил «пропасть»!) и нуждается в модернизации (видимо, в модернизации по Бжезинскому: порубить слона на несколько десятков шакалов). Следует полагать, что «модернизированный стива» уже перестал отставать. Российскому же народу еще «топать и топать» до этой модернизированной «стивилизации».
Следует отметить, что Миронов (неважно, сознательно или бессознательно) по сути дела дописал «Историю…» Н.М. Карамзина до начала XX века. Это похвально, но, осуществляя социоисторический анализ истории России как имперской цивилизации, следует не продолжать Карамзина, а начинать со времен Ивана Грозного. С синергетической точки зрения тот судьбоносный для России момент бифуркации, после которого стала раскручиваться именно «императорская спираль» отечественной истории (так называемый «эффект бабочки»), имел место в XVI веке. Публицистическая повесть-памфлет И.С. Пересветова «Сказание о Магмете-Салтане», а также две челобитные к Ивану Грозному своей концептуальной мощью, исключительной по силе устремленностью к правде и достаточной для того времени аргументированностью вызвали сильный резонанс в менталитете 19-летнего царя, задали вполне определенную тенденцию в развитии его мировоззрения и оказали, наконец, решающее влияние на сделанный им исторически эпохальный выбор, в результате которого окончательно и бесповоротно был взят курс на сильную самодержавную власть и на опричнину как на реальный механизм ее осуществления в условиях боярского своеволия. Кстати, боярское своеволие в российском менталитете имеет однозначный смысл крайнего непослушания старших детей в большой семье, а не «демократической деятельности атомизированных собственников»; в семье не воруют, не рвут кусок побольше, не гребут под себя, не эксплуатируют друг друга, слушаются своего отца, который, в свою очередь, стремится иметь здоровое, умное, справедливое, трудолюбивое потомство, а не воров, проституток, наркоманов, убийц, алкоголиков, каких-то бисексуалов и прочих детей демократии. Миронов, отмечая, что «адюльтер, кровосмешение, бисексуализм, неуважение к родителям, злоупотребление родительской властью, аборт и некоторые другие поступки или виды отклоняющегося поведения вплоть до 1917 г. рассматривались как уголовные преступления, т.е. как преступления против общества и общественного порядка, а не как частные дела», видимо, опираясь на американскую русистику, считает это «пережитками патриархально-авторитарных отношений», солидаризуясь в этом отношении с Булдаковым, который тоже назвал все это «реликтом». Это говорит о том, что, оба ученых считают здоровую человеческую этику устаревшим социокультурным фактом, а либерализацию уголовных преступлений, приватизацию человеком собственного тела в целях продажи рук, мозгов и т.д., включая внутренние органы, — более прогрессивным явлением. Собственно говоря, это их личное «микроисторичное» мнение, которое «макроисторично» игнорируют представители всех этически здоровых цивилизаций, за исключением нравственно больной западной. Здраво рассуждающие люди понимают, что травоядная этика слона не может быть устаревшей, а трупоедение гиен и шакалов — прогрессивным. Это их естественная этика, а пытаться изменить поведение каждого из них — это противоестественно; хотя следует отметить, что социокультурные технологии такого клонирования, или «стивилизации», уже имеются, т.е. есть уже вполне научные разработки «ошакаливания слонов». Иначе чем объяснить появление в природе человеческой разнообразных «стив» и других «культурно стерилизованных» и «некультурно стивилизованных» особей.
Что же касается клиотерапии Миронова, то, несмотря на благонамеренность автора и благотворность самой идеи, клиотерапевтические возможности монографии крайне ограничены и могут произвести благотворное воздействие только на читателей с очень слабой контрсуггестией. Согласно Миронову, его макроисторический подход обнаруживает «две закономерности исторического развития России: поступательность и нормальность». Иными словами, то, что шаг за шагом, т.е. «поступательно», происходит «стивилизация» нашей молодежи, — это «нормально». В этом-то и суть мироновской клиотерапии. Никакого вклада в отечественную социальную историю она не сделала, а вот в социальную практику может привнести достаточно негатива: если все идет «нормально» и «поступательно», так что зря суетиться? Спи-отдыхай, а колеса истории закономерно вывезут тебя куда надо.
С точки зрения методологии рассмотренные выше три работы современных отечественных социоисториков отражают ситуацию мировой историографии, которую можно охарактеризовать и как методологический плюрализм, и как релятивизм, но более точно как обыкновенную методологическую дезориентацию, следствием которой явился возникший в мировой и нашей историографии когнитивный тупик. Если вспомнить, что мировая историографическая ситуация прекрасно описывалась известной басней И.А. Крылова, то в силу тождественности ситуации в отечественной социальной истории последняя с точностью до героев тоже вписывается в эту же басню: щука — психоанализ В.П. Булдакова, рак — микроистория С.В. Журавлева и лебедь — макроистория Б.Н. Миронова.
Такая своеобразная методологическая конвергенция западной и отечественной социальной истории с нашей стороны совершалась по схеме: первый методологический кризис «обрезал» наш цельный, взаимосвязанный, органичный, самодостаточный и универсальный теоретико-методологический комплекс до размеров истмата; последний, обретя монополию, имел неограниченные возможности реализовать свой познавательный потенциал и в полной мере их использовал; второй методологический кризис уничтожил монополию истмата, основательно «подмочив» при этом его репутацию, и заменил методологическую монополию на методологическую «демократию». Вот такая ситуация сложилась в отечественной методологии, в силу чего отечественная историография стала активно адаптироваться к западному методологическому климату и шаг за шагом уже необратимо «сползать» в постмодернистское состояние.
Список литературы
- Адамович А., Гранин Д., Брыль Я., Колесник В. Я из огненной деревни… Блокадная книга. М., 1991.
- Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Самара, 2000.
- Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. Французская историческая школа «Анналов» в современной историографии. М., 1980.
- Баткин Л.М. Полемические заметки // Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995.
- Бойко В.Я. После казни. Документальная повесть. М., 1975.
- Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. Булдаков В.П. Октябрь и XX век: Теории и источники // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: От новых источников к новому осмыслению. М., 1998.
- Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях. 1918 — 1932 гг. М., 1998.
- Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М., 1966.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1994. Т. 1.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
- Демидов В.А. Россия. Президентская республика. 1993-1996 гг. Новосибирск, 1998.
- Демидов В.А. Россия: политика и политики. 1985-2000 г.: Курс лекций. В 2 ч. Новосибирск, 2000.
- Журавлев С.В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-30-х гг. М., 2000.
- Иггерс Г.Г. История между наукой и литературой. // Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001.
- Из опубликованного: Ветров, он же — Солженицын // Военно-исторический журнал. 1990. № 12.
- Ионов И.Н. Проблема сравнительного изучения цивилизаций в национально-историческом контексте // Цивилизации. Вып. 2. М., 1993.
- Ионов И.Н. Российская цивилизация и истоки ее кризиса. М., 1994
- Ионов И.Н. Методологические проблемы теории цивилизаций и русская философская традиция // Проблемы исторического познания. М., 1999.
- Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999.
- Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. Вып. 1. М., 1997.
- Карамзин Н.М. Избранные сочинения: В 2 т. М.-Л., 1964. Т. 2.
- Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993.
- Келле В.Ж. Соотношение формационного и цивилизационного подходов к анализу исторического процесса // Цивилизации. Вып. 2. М., 1993.
- «Красная смута» на «круглом столе» // Отечественная история. 1998. № 4.
- «Круглый стол». Большие резервы «малой истории» // Отечественная история. 2001. № 6.
- Куприянов А.И. Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996.
- Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999. Вып. 2.
- Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX века). В 2 т. СПб., 2000.
- Могильницкий Б.Г. Революция 1917 г.: новые подходы // Проблемы истории и исторического познания: Сборник научных статей. Томск, 2001.
- Олех Л.Г. Проблемы транзитологии и исторические исследования // Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. Т. 1. Томск, 1999.
- Персональная история. М., 1999.
- Покровский М.Н. «Идеализм» и «законы истории» // Покровский М.Н. Избранные произведения в четырех книгах. М., 1966-67. Кн. 4.
- Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в период первой мировой войны (1914 — март 1918 гг.). Екатеринбург, 2000.
- Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке: школы, проблемы, идеи. Екатеринбург, 2000.
- Сафронов Б.Г. М.М. Ковалевский как социолог. М., 1960.
- Согрин В.В. Клиотерапия и историческая реальность: тест на совместимость (Размышление над монографией Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи») // Общественные науки и современность. 2002. № 1.
- Соколов А.К. Курс советской истории. 1917 — 1940. М., 1999.
- Соколов А.К. Наука, искусство и социальные реалии минувшего столетия // Отечественная история. 2002. № 1.
- Споры о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». М., 1993.
- Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. М., 1997.
- Тилли Ч. Микро, макро или мигрень? // Социальная история. Ежегодник. 2000. М., 2000. Вып. 3.
- Тойнби А. Постижение истории. М., 1996.
- Чернышевский Н.Г. Критика философских предубеждений против общинного владения // Чернышевский Н.Г. Собр. соч. в 5 т. М., 1974. Т. 4.
- Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
- Ястребицкая А.Л. Вступительная статья к «Введению в историю» Л.П. Карсавина // Вопросы истории. 1996. № 8.
- Ястребицкая А.Л. Историк культуры Лев Платонович Карсавин: у истоков исторической антропологии в России // Диалог со временем: историки в меняющемся мире. М., 1996.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»