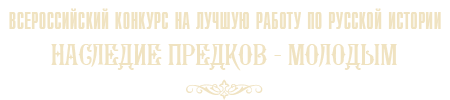Долгова Е.А.
История Руси (допетровская эпоха)
Одним из самых ярких и спорных подходов в современной медиевистике является категориальный подход, позволяющий рассматривать исследование истории Средневековья как анализ «картины мировидения средневекового человека». Среди отечественных исследователей он был обоснован в работах А. Я. Гуревича (Гуревич А. Я., 1991) и Ю. В. Бессмертного, а применительно к русскому средневековью – А. Л. Юргановым (Юрганов А. Л., 2001). Предложенные в историографии категории (восприятие времени, пространства, права, труда, собственности, богатства и бедности, - Гуревич А. Я., 1972; время и пространство, власть и собственность, вера и правда – Юрганов А. Л., 1998) позволяют через освещение отдельных доминант реконструировать «источниковую» реальность прошлого.
Эпохе Средневековья присущ свой особый комплекс мировосприятия, в котором значение духовного фактора становится первым по значимости. При этом доминантой средневекового сознания выступает мысль о Спасении, тесно связанная в сознании с ожиданием Второго пришествия и идеей Страшного суда. Постепенно Второе пришествие перестает восприниматься как «вручение души», «избавительное вмешательство» Бога; оно все теснее увязывается с идеей Суда и неизбежностью наказания в вечности. Спасение при этом понимается как решение на Страшном суде, единственным обоснованием которого является праведность. Понимание праведности и восприятие спасения в этом плане выступают важнейшим составляющим компонентом духовной картины Средневековья, изучение которого невозможно без освещения близких сюжетов: Страшного суда, Наказания, Смерти.
В исторической науке изучение смерти прошло свой путь от изучения смертности как количественного показателя, с которым работали историки – демографы, до понимания Смерти как феномена, одного из неотъемлемых компонентов любой культуры. Впервые к изучению смерти-категории обратились историки западноевропейского средневековья и раннего Нового времени: французские исследователи - Ф. Арьес (AriesPh., 1975), М. Вовелль (VovelleM., 1983), П. Шоню (ChaunuP., 1978), в немецкой историографии этой проблематике были посвящены работы Й. Волаша (WollaschJ., 1989). В российской исторической науке сходными сюжетами занимался Ю. Л. Бессмертный (Бессмертный Ю. Л., 1991), акцентировавший в своей работе внимание на демографических процессах в истории Франции. Проблематику историографического дискурса темы осветил в своей статье А. Я. Гуревич (Гуревич А. Я., 1989).
Применительно к истории русского Средневековья тема не переживала своего «демографического» периода, а сразу была включена в контекст исследований русской религиозности (Алексеев А. И., 2002). Тем не менее, тема не получила достаточного освещения и не стала отдельным сюжетом для изучения. По сути, единственной работой, стало источниковедческое исследование Р. П. Дмитриевой «Повести о споре жизни и смерти», исследовавшей распространение в Московской Руси подобных сюжетов (Дмитриева Р. П., 1964). Тем не менее, освещение темы важно при воссоздании картины русской средневекового сознания и его преломления в канонической религиозности.
По мнению ряда исследователей, именно в это время происходит «замещение» идеи Страшного суда. Из ожидаемого в конце времен, он переносится в личностный план, преобразуясь в идею «посмертного» суда. Эсхатологические ожидания перестают носить неопределенный характер и максимально индивидуализируются. И страшный суд, и конец Времен, и обретение Царства Божьего разыгрываются у смертного одра. Осознание собственной греховности и предчувствие грядущего наказания многократно усиливаются неизбежной перспективой личной смерти и личного ответа. Косвенно это меняет и само отношение к Смерти.
Ее восприятие условно можно обозначить как мирское и каноническое. Если для первого типа характерна тенденция все более сильного акцентирования земных радостей, страх перед смертью, сосредоточение внимания на физиологических картинах распада, чувство неизбежности наказания (один из ярких примеров – «Повесть о неком человеке Богобоязниве» // Дмитриева Р. П., 1964. С. 193-201), то второе изначально ориентировано на преодоление греха и обретение Спасения через Праведность. При этом лишь каноническое изначально дает ориентиры этой Праведности – жития святых - с вариативными формами ее реализации: мученичества, подвижничества, непротивления. И только каноническое предполагает обретение Спасения. При этом в рамках канонического возникают подчас альтернативные, взаимоисключающие модели.
В канонической мысли формируется определенный канон изображения смерти. Отношение к ней может быть обозначено краткой формулой: «Смерть грешникам люта, а праведну мужу покой есть» (Дмитриева Р. П., 1964. С. 178). В соответствии с этим выстраивается и описание смерти праведника. Все события, связанные с его кончиной: предчувствия, видения, болезнь, поведение перед смертью, а также характер самой кончины включались в картину смерти и воспринимались как проявления «посмертного» суда, когда внешнее и телесное становилось символом внутреннего, потаенного и духовного. Важнейшим становится и восприятие смерти человеком, нравственная готовность к ней: «Иде же совесть чиста и не осквернена калом греховным лютаго жития сего, тамо без страхованиа смерть и ждется с сладостью, аки начало благых и приемлется с радостью» (Дмитриева Р. П., 1964. С. 144). Монашеский идеал смерти праведника в московской книжности – это умиротворенная, благостная кончина инока в кругу монахов-братьев. При этом складывается особый канон «благой» смерти: это знание, предчувствие праведником своего ухода; непременное причастие перед смертью при условии полного сознания праведника; тихая, легкая, подобная сну кончина («успение»), непременное просветление лика и нетленность тела, «источение» ароматов; посмертные чудеса и исцеления у могилы праведника.
Примером такой «благостной» кончины становится в средневековой книжности успение Сергия Радонежского: «И в самый убо исход, вен хотяше телесного съуза отрешитися владычняго тела и крови причастися, ученик руками того немощныя уды подкрепляемы. Воздвиже на небо руце, молитву сотворив, чистую свою и священную душу с молитвою Господеви предаст… Лице же святого светляаше, яко снег, а не яко обычай есть мертвым, но яко живу или аггелу Божию, показуя душевную его чистоту и еже от Бога мздовьздаания трудом его…Излияся же ся тогда благоухание велие и неизреченно от тела святого…Ему же предидяху аггели въ преставлении къ небеси, двери предотверъзающе райскыя и и в желаемое блаженство вводяше, в покой праведных, в свет аггелъ, и иже присно желааше, зряйи все святыя Троици озарением приемля, яко же подобоаше постнику, инокам украшение…» (БЛДР. Т. 6. С. 408)
Иные картины смерти в книжности, какие-либо отступления от канонов единичны и неизменно оговариваются книжником («таковемъ мучением, иже на смерти, соврешене очищаются и непорочни отходят»). Тем не менее, смерть святого изначально представляется как желанное освобождение от земных уз и воссоединение с Богом, в то время как смерть грешника – это тяжкое и мучительное расставание с жизнью.
Необходимо отметить, что речь идет не о реальных обстоятельствах смерти, установить которые едва ли позволяет специфика средневековых источников, а о каноническом образе этого события, которое сохранилось в исторической памяти. По словам Д. С. Лихачева, историческая повесть «рассказывает об историческом факте лишь то, что считает главным, согласно своим дидактическим критериям и представлениям о литературном этикете… Деталь воспринимается не такой, какой она была в действительности, со всеми ее случайными чертами, а так, чтобы лучше быть воспринятой в ее целостности читателем – как геральдический знак, эмблема описываемого объекта» (Лихачев Д. С., 1971. С. 281). Для средневекового сознания обстоятельства смерти неважны. Важно лишь их соответствие сложившемуся канону.
Тем не менее, именно в это время в канонической мысли появляется новая тенденция. В житийном корпусе появляются источники нового вида – рассказы о смерти праведников, представляющие своего рода хронику последних дней их жизни. Начало этой традиции фиксируется еще в книжности Пафнутьев-Боровского монастыря, в дальнейшем традиция связывается с Иосифо-Волоколамским монастырем, духовным преемником Пафнутьев-Боровского («Иосифа постриг Пафнутей Чудотворец Боровской своими руками, а Пафнутья постриг старец Никита, ученик Сергия Чудотворца» // АИ. Т. 1. № 216. С. 410). Неопределенность их жанровых характеристик - различные списки фиксируют разные названия: повести, рассказы и даже сказания* - подчеркивает их обособленность от собственно житийного жанра. Как писал Д. С. Лихачев, «жанр в древней русской литературе – это не только литературное явление, но и явление внелитературное» (Лихачев Д. С., 1987. С. 132), вследствие чего любые изменения в структуре и стилистике источника фиксируют изменения самой эпохи. Изменения же в житийном жанре, тесно связанном с церковной литургией и монастырским обиходом, - это свидетельство глубинных перемен в сознании. Жанр т. н. «документальных записей», не претендуя на литературность, конкретизирует, индивидуализирует, документализирует сюжет. Здесь целью ставится уже не столько следование определенному литературному клише, а попытка зафиксировать происходящее. Воссоздание его, преодоление житийных канонов открывает другую, источниковедческую реальность канонического.
Одним из таких произведений является «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» (Ключевский В. О., 1871. С. 439-453; ПЛДР, 1982. Т. 7, С. 478-513; БЛДР, Т. 7., 2005. С. 254-284), основателя Боровского монастыря Рождества Богородицы, канонизированного в 1547 году, написанный в 1477-1478 гг. иноком Иннокентием. Сама жизнь Пафнутия привлекала внимание многих историков (Хрущов И., 1868; Ключевский В. О., 1871; Будовниц И. У., 1966; Зимин А. А., 1977). Источниками при этом становились официальное житие Пафнутия Боровского, составленное в начале 16 века ростовским епископом Вассианом Саниным (Кадлубовский А.Д, 1899) и краткое житие, помещенное в Патерике Иосифо-Волоколамского монастыря (Семинарий…, Б. г). Рассказ же практически не привлекался. Более того, он не был включен и в житийную традицию. При составлении официального жития в 1505-1515 годах Вассиан Санин обозначил его в числе источников, но при этом рассказ использовался в очень незначительной степени. В исторический оборот источник был введен лишь в 1871 году В. О. Ключевским, опубликовавшим его в приложении к работе «Древнерусские жития как исторический источник». В дальнейшем рассказ не привлекал особого внимания исследователей. Его исключительную значимость для понимания литературной и мировоззренческой ситуации позднего Средневековья обозначил лишь Д. С. Лихачев, назвавший источник «своеобразным «литературным чудом» XV века» (Лихачев Д. С., 1987. С. 131).
Интересная параллель к нему - «Рассказ о последних днях и преставлении тверского епископа Акакияе», составленный в 1570-х пострижеником Иосифо-Волоколамского монастыря Вассианом Возмицким (известным под прозвищем Кошка), архимандритом Возмицкого монастыря (БЛДР, Т. 13. 2005). Большое значение здесь приобретает именно авторство: перу Вассиана принадлежало не только надгробное слово Акакию тверскому, но и такие произведения, как Житие Кассиана Босого (наряду с «Рассказом о смерти Пафнутия Боровского» определенным Лихачевым как «документальные записки» (Лихачев Д. С., 1987, С. 130-134) и риторическое произведение «О вражде старцев Кирилло-Белозерского монастыря на иосифлян». Сам же рассказ сохранился в единственном списке (РНБ, Собр. Погодина, № 1564) и так же, как и «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» не имел широкого распространения.
Произведения близки не только по происхождению и истории бытования источника. Единство целеполагания обуславливает и близость жанровой структуры, предполагающей освещение картины смерти: предчувствий, поведения перед смертью, духовного состояния, последних дней жизни, а также самой кончины умирающего праведника. Тем не менее, содержание произведений, оценка нравственных идей и доминант, само восприятие Праведности отлично. Если «Рассказ о преставлении тверского епископа Акакия…» безусловно следует житийным образцам, то «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» ломает их, предлагая свою модель Праведности и Спасения в Средневековье.
Рефреном «Рассказа о смерти Пафнутия Боровского» становится мысль о покаянии. Иннокентий пишет о последних днях святого «души своей на въспоминание, паче же – на обличение» (БЛДР. Т. 7. С. 254), а боль Пафнутия в том, что «60 лет угажено миру и миръским человекомъ, князем и бояромъ, - а того не вемъ, чего ради?» (БЛДР. Т. 7. С. 276). В вину Пафнутий ставит себе именно «суету» всей прошлой жизни, свою близость к «князем и бояромъ» и фактически свой долг как настоятеля монастыря.
Официальное житие рисует достаточно четкую хронологическую канву жизни святого (Кадлубовский А. Д., 1899). В 1414 году Пафнутий (в миру Парфений) становится иноком Боровского Покровского монастыря; уже в 1434 году он - настоятель Высоковского монастыря. По неизвестным причинам в 1444-ом Пафнутий покидает монастырь и поселяется на реке Истерьме, на землях Дмитрия Шемяки. В историографии отмечалось, что причиной ухода Пафнутия стало активное вмешательство Василия Ярославича в дела обители, в частности, его запрет на расширение монастыря, в то время, как Шемяка беспрепятственно предоставил земли новому монастырю и мало интересовался его внутренними делами (Осипов В. И., 1997. С. 174). Монастырь Пафнутия, основанный им в честь Рождества Богородицы, активно вмешивался в политическую борьбу 40-50-х годов, открыто выказывая свою поддержку Дмитрию Шемяке. В ответ Василий Ярославич Серпуховско-Боровский несколько раз пытался сжечь новый монастырь (Кадлубовский А. Д., 1899. С. 122-123). Тем не менее, поминание в молебнах Боровского монастыря Дмитрия Шемяки продолжалось вплоть до его смерти в 1451 году (несмотря на официальный запрет митрополита Ионы). После смерти Шемяки Пафнутий склоняется к поддержке великокняжеской власти и постепенно монастырь переходит в русло московской политики. Так, после докончания Ивана Васильевича и Бориса Волоцкого Вышгород отошел в Волоцкий удел; по челобитью же Пафнутия Боровский монастырь был оставлен за Москвой. Уже при жизни Пафнутия монастырь приобрел славу одного из богатейших, чьи земли располагались в Боровском, Малоярославском, Звенигородском, Коломенском уездах. Вкладчиками монастыря были князья Андрей Васильевич, брат Ивана Васильевича, Юрий Васильевич, Михаил Андреевич Верейский и др.
Именно это считает Пафнутий своим грехом. «Не княжеской властию, ни богатством силных, ни златомъ и ни серебром создавалось место сие, но волею Божией и помощью Пречистой Матери его» (БЛДР. Т. 7. С. 276). И сам не верит в это, осознавая всю бренность своей жизни. И оттого пытается хоть как-то исправить все, хоть в последние дни отказаться от мирского. Оттого отказывается от привезенных из тверского удела «грамот и денег золотых», запрещая их брать и Иннокентию («Ты возмешь – ино то я взял»), уповая на Пречистую; оттого не принимает ни духовника великого князя, ни посланцев великой княгини Марии Ярославны и «Софьи-гречанки». «Уже ничтоже требую от мира сего, ниже чести желаю, ниже страха от мира сего боюся…Истину вам глаголю – не разгневите Единого, ничтоже Вам успетъ гнев человеческый» (БЛДР. Т. 7. С. 266) - вот итог последних дней, когда самым страшным оказывается понимание необратимости, непоправимости человеческого пути. Нет святой жизни, житийный канон праведности изначально отринут в произведении. Напротив, появляется ощущение греховности, бренности, неисполненности предначертанного. И оттого святой не верит в свою способность привести к спасению молитвой и заступничеством; он отказывает себе даже в благословении: «…от мене, грешнаго, требуют молитвы и прощения, а я, видите, самъ наипаче во время се требую молитвы и прощения…сам себе не могу помощи, а он от мене руки требаше…» (БЛДР. Т. 7. С. 260). Этот отказ в благословении ломает житийный канон. В христианской традиции благословение воспринимается не как отпущение грехов человеком, но как отпущение грехов Господом рукою праведника. Ставится под сомнение не только сама возможность благословения человеком, не только понятие праведности как благодати, которую властен определить только Бог, но и сама возможность спасения через чью-то молитву.
Пафнутий не верит в свою Праведность, не верит и в свое Спасение (еще одно нарушение канона!). Для него накануне ухода нет ничего, - лишь страх перед Судом, - и еще призрачная возможность праведной смерти, хоть в какой-то мере искупающей грехи: «Господь паки своим милосердием дастъ мне, грешному, 6 дней покаяния ради…» (БЛДР. Т. 7. С. 262). Возможен лишь один путь к спасению: уход, полное растворение в покаянии и молитве, отказ и неприятие бренных забот и волнений мира: «…старец же о всем млъчаще, развъ точью молитву Исусову непрестанно глаголаше…» (БЛДР. Т. 7. С. 258). Это молчание – путь к Богу, путь духовного восхождения, при котором снимается все случайное, субъективное, психологическое, это очищение от всего лишнего, вторичного на пути к Богу. Для праведника остаются лишь покаянные молитвы, упование на Бога и понимание того, что лишь в Его власти осудить и простить, хотя и кажется немыслимым прощение. Мольбою непрестанно повторяющаяся молитва: «Многими съдржим напастьми…Не остави мене въ человеческое предстоя» (БЛДР. Т. 7. С. 272); - и апофеозом - исповедь безвестному священнику, из рук единственно которого он хочет принять благословение, и просьба похоронить «лубком оберти … а гроба не купи дубова» (БЛДР. Т. 7. С. 280).
Но преломлением в мировоззрении становится не обрядовая сторона ухода из жизни, а глубинная внутренняя его составляющая. Прежде всего, это абсолютное одиночество святого и - более того – стремление к этому одиночеству: он не только отказывается принять кого-либо из мирян, приехавших за благословением, но и скрывает слабость свою от монахов. И умирает святой один, сокрытый от всех: « Не смех никому же рещи, яко тоходить къ Господу, понеже хощеть молва велика быти…» (БЛДР. Т. 7. С. 282). Пафнутий ищет индивидуального спасения и обретает его именно в уходе от греха, в глубочайшей внутренней рефлексии.
Причина этого - в мучительном исходе средневекового сознания, в понимании того, что святость невозможна не только в миру, но и в монастыре, исключенном из мирской суеты. Монастырь для Пафнутия перестает быть спасением и убежищем. Святой оказывается бесконечно одинок в монастыре, основанном им: «…вем, яко по отшествии моеи Пречистые монастырю будетъ мятежникъ много. Мню, душу мою смути и въ братии мятеж сотвори» (БЛДР. Т. 7. С. 282). После кончины Пафнутия монастырь в самом деле начинают потрясать смуты, связанные с игуменством Иосифа и с одной стороны его попыткой ужесточить монастырскую дисциплину, а с другой, наметившимся противостоянием Иосифа с великим князем Иваном Васильевичем. Следующие настоятели – Герасим и Арсений – также удерживаются недолго. Интересно, что Пафнутий отказывается решать судьбу своего монастыря: «Кому приказываеши монастырь, братии или великому князю?» - и коротким ответом - «Пречистой» (БЛДР. Т. 7. С. 277). Человек, игумен не властен решать судьбу обители и распоряжаться ею, он может лишь следовать воле Господа.
Картина кончины Пафнутия реалистична: «тремя дохновении предасть святую свою душу в руце Божии, его же измлади възлюби. И к тому не обретеся дух ъ в старци, понеже усну века сего сномъ, нозъ простере и руце на пересех крестаобразно положъ, приложися къ святымъ отцамъ, ихъже и житию поревнова» (БЛДР. Т. 7. С. 284). Сохраняются лишь отдельные элементы канона. Мы не находим в «Рассказе…» ни «просветления лика», ни нетленности мощей, ни тем более творимых у раки чудес и исцелений. Это тем более странно, если принять во внимание, что в произведении описывается не просто смерть праведника, а смерть святого, местночтимого уже с 1531 года. От канона остается лишь легкость смерти, ее «успение».
«Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» оттеняет «Рассказ о преставлении тверского епископа Акакия…», архимандрита Возмицкого монастыря Рождества Богородицы в Волоколамске, епископа Тверского и Кашинского. Здесь представлена иное понимание праведности и иное восприятие спасения. «Рассказ…» полностью следует традициям русской житийности: канонична картина преставления праведника, глубоко канонична и его жизнь. Что видится болью и бесконечным грехом Пафнутия, то становится пламенным подвигом Акакия: «…Молебник бо бысть веренъ о благоверном царе великом князе Иване многолетном здравии и спасении, и о его благоверной царице великой княине, и о их богодарованных чадех, царевиче Иване и царевиче Феодоре, и о их христолюбивом воинстве, и о всем православном християнстве» (БЛДР. Т. 13. С. 237). Его подвиг, его Спасение – не уход в свое покаяние, а подвиг молитвы за спасение всех.
Это отчетливо вписывается в традицию поминовения, зародившуюся в Иосифо-Волоколамском монастыре и в 40-50-х годах XVI века усвоенную остальными русским монастырями. Эта традиция предполагала внесение мирянами вкладов в монастыри и обязанность братии совершать поминовения на проскомидии (центральном моменте божественной литургии). При этом вклад оценивался как единственно возможный доход для монастыря и самая легкая возможность спасения души для мирян (Алексеев А. И., 2002. С. 150). Монастырь Акакия изначально живет царскими пожалованиями: «Государь, святой владыка, Пречистой милостию, молитвами преподобного игумена Иосифа, царским жалованием есть у чего и с кемъ в Иосифове монастырек жити» (БЛДР. Т. 13. С. 440). При этом нет той трагичности, которая так очевидна для Пафнутия Боровского. На первый план отчетливо выдвигаются политические реалии. Предопределение Церкви, монашества, праведника – мольба за здравие «благоверного царя», помощь и всемерная поддержка его. Жизнь Акакия, его участие в политических церковных соборах: поставления русских митрополитов Иосафа и Макария, канонизации русских святых, Стоглавом и др., оценивается как безусловный подвиг, его радение за святую Церковь и христиан.
Роль святого заступника, «молебника» достигает своего апогея в произведении:«…Некогда же у владыкы духовнику седяшу перед преставлениемъ, и владыка възревъ на духовника и рече: «Яз и о вас Богу молюся». Духовник же поклоняется владыке до земли и глаголет: «Помилуй мя, Господи, твоими молитвами, святой владыка…» (БЛДР. Т. 13. С. 437). Поведение Акакия канонично, монах не вправе отказывать в благословении и оттого«у святого владыки ни единаго человека не прощенна и не благословенна» (БЛДР. Т. 13. С. 441). Это свое понимание праведности, свое понимание спасения. Его можно обрести через молитвы и благословение праведника, и праведник властен давать его, так как ему уже даровано его предчувствие.
Житийным традициям полностью соответствует и картина преставления Акакия, она составляется «на прочитание памяти, для чего Бог сподобил от такаваго святого благословение приятии и чесным мощем его коснутися…» (БЛДР. Т. 13. С. 445). «Владыка аки уснулъ и абие легко икнулъ во втором часу нощи. Такого святого владыки преставление. Лице же его учинилося светло паче, неже у живого, очи же и устне, якоже у спяща» (БЛДР. Т. 13. С. 443), - такова по всем житийным канонам смерть праведника. Нет одиночества, нет мучительного стремления к нему: «…В Иосифове манастыре старцы – пророки. Подобен Иосифов монастырь старцами Печерскаго монастыря старцем киевским, иже бысть во оно время при благоверных великих князьях…» (БЛДР. Т. 13. С. 441). Соблюдается канон «благостной кончины» праведника: умиротворенное «вручение души Богу» в кругу монахов-братьев. Нет посмертных чудес и нетленности мощей, но их и не требует канон: перед нами смерть праведника, а не святого. Сцена погребения Акакия рисует картину полного умиротворения, примирения земного и небесного: «По приказу же самого владыкы Акакия погребены бысть святыя мощи его чесно въ Пречистой обители в Жолтиковъ посланием благовернаго и христалюбиваго царя государя великаго князя Ивана Васильевича…по благословению пресвященнаго Филиппа митрополита всея Руси» (БЛДР. Т. 13. С. 442). Нет «лубка» и раздачи денег, предназначенных на покупку «дубова гроба» (БЛДР. Т. 7. С. 280) нищим на калачи. Да все это и не нужно здесь. Праведник уже обрел свое спасение святой жизнью, духовным подвигом молитвы и защиты святым своей паствы, приведения ее к Спасению.
Итак, в данной работе были предложены две модели восприятия праведности и спасения в канонической мысли средневековой Руси. Мы попытались реконструировать отдельные сюжеты через восприятие смерти конкретным человеком в личной повседневной жизни, через освещение его личных эмоций по отношению к предстоящему и преломление этих эмоций в канонической литературе. Специфика и состояние средневековых источников ведет к тому, что крайне редко удается услышать голос средневекового человека, стоящего на пороге смерти. Реальность, которая открывается в книжности, - это реальность сознания средневековья. Тем более важным и значимым является каждое отступление от этой канонической реальности, каждый отдельный голос эпохи.
Само появление «документальных записей», фактически нового жанра в канонической литературе, – уже свидетельство перемен. Индивидуальное личностное преломление, попытка документализировать и индивидуализировать сюжет ведет к изменению в структуре и содержании канонического жанра, отступлению от него. Подобные перемены в житийном жанре указывают на глубокие изменения в самом сознании эпохи.
Трансформация религиозного сознания в рассматриваемую эпоху предполагает возникновение в рамках канонической системы мировосприятия вариативных, часто противоположных моделей спасения. В каждом из источников, в каждой из моделей заключен свой смысловой мир, целостный и самодостаточный. Задачей историка становится не критика источников, не отсечение «случайностей», не сведение к единому и усредненному, а реконструкция «источниковой» реальности, воссоздание уникального и единственного в истории, бережного соединения смысловых миров в единую целостную культуру.
Источники
- Волоколамский Патерик // Московские Высшие женские курсы. Семинарий по древнерусской литературе. Сергиев Посад. Б. г. С. 17-24.
- Двоесловие живота и смерти // Дмитриева Р. П. Повести о споре Жизни и Смерти. М., Л., 1964.
- Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия Чудотворца // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6. СПб., 1999. С. 254–411.
- Кадлубовский А. Д. Житие преподобного Пафнутия Боровского, писанное Вассианом Саниным // Сборник историко-филологического общества при институте князя Безбородко в Нежине. Нежин, 1899. Т. 2.
- Повесть о смерти Пафнутия Боровского // Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. С. 439-453 (Приложение).
- Повесть о кончине Пафнутия Боровского // Памятники литературы древней Руси. М., 1982. С. 478-513.
- Рассказ Вассиана Кошки о последних днях и преставлении тверского епископа Акакия // БЛДР. Т. 13. СПб., 2005.С. 434 – 445.
- Рассказ о смерти Пафнутия Боровского // БЛДР. Т. 7. СПб., 2005. С. 254–284.
Литература
- Алексеев А. И. Под знаком конца времен: очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI века. СПб., 2002.
- Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в Средние века: очерки демографической истории Франции. М., 1991.
- Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в 14-16 веке. М., 1966. С. 224-228.
- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
- Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. М., 1989. С. 114-136.
- Дмитриева Р. П. Повести о споре Жизни и Смерти. М., Л., 1964.
- Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина. М., 1977. С. 43-46.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. С. 204-207;
- Книжные центры Древней Руси: Иосифо-волоколамский монастырь как центр книжной культуры. М., 1991.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1971.
- Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси // Избр. Труды. 3 тт. Л., 1987. Т. 3.
- Осипов В. И. Из истории Пафнутьев-Боровского монастыря в XV – XVI вв. // Монастыри в жизни России. Калуга. Боровск. 1997.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1-2. Л., 1989.
- Хрущов И. Исследования о сочинениях Иосифа Савина. СПб., 1868. С. 14-23.
- Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии // Вопросы истории. 2001. № 9. С. 36-52.
- Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
- AriesPh. Essais sur l histoire de la mort en Occident du moyen age a nos jours. P. 1975.
- Chaunu P. La mort a Paris au XVI, XVII et XVIII siecles. P. 1978.
- Vovelle M. La mort et l Occident de 1300 a nos jours. P. 1983.
- Wollasch J. Totengedenken im Reformmonchtum // Monastische Reformen des 9. und 10. Jahrhunderts. Sigmaringen. 1989. S. 147-166.
* Повесть о смерти Пафнутия Боровского // Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871 или Рассказ о смерти Пафнутия Боровского // БЛДР. Т 7; Сказание о преставлении старца Антония Галичанина // Сборник Нифонта Кормилицына (ГПБ, Q. X. VIII. 15) или Повесть страшна и зело полезна // Собрание Мартина Рыкова (ГБЛ. Собр. Волоколамское, № 520).
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»